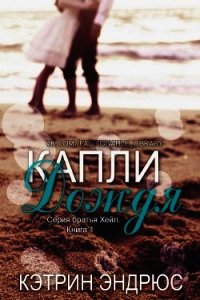Отцы - Панюшкин Валерий Валерьевич (книги без регистрации .txt) 📗
– О! – продолжала ты ревизию завтрака. – Шоколадка! Я очень же люблю икру именно с шоколадкой, а шоколадку именно с икрой.
Я раскопал носом твою шею под волосами и потерся носом о шею.
– Папа, не щекочись! – сказала ты.
– Сделай что-нибудь с лицом, – сказала мне мама. – Ты похож на Пьеро, играющего Лира.
– Может, пойдете уже? – сказала бабушка.
Мы вышли из поезда и подошли снаружи к окну, чтобы помахать оставшимся внутри вам с бабушкой. Ты лишь на секунду отвлеклась от своего шоколадно-икорного коктейля, помахала нам рукой и прокричала нам что-то. Я не расслышал сквозь стекла, но, судя по губам, ты, кажется, кричала: «Передай привет Стичу».
Вернувшись домой, я нашел Стича под диваном. Достал его и подумал, что при некоторых обстоятельствах дурацкая рожа плюшевого чудовища может выражать совершенное отчаяние.
– Вы сейчас заплачете оба, – усмехнулась мама, глядя на нас с игрушкой. – Заплачете слезами из глаз.
33
И там, на даче в пять лет ты научилась петь. Вернее, как бы это сказать, поняла, что можно разговаривать, можно выкрикивать кричалки, а можно петь. Не знаю, бывает ли у детей в пять лет уже музыкальный слух и голос, но то ли у тебя не было слуха, то ли не было голоса, то ли ты не могла слух с голосом скоординировать. Пение ты понимала первобытно, в том смысле, что важны слова, а мотив неважен, и хорошей песня становится оттого, что рассказывает про котят, про цветы или про драконов, если только можно представить себе, чтобы кто-нибудь на свете ухитрился сочинить такой шедевр.
До пяти лет ты, ничтоже сумняшеся, за неимением песни про драконов сочиняла свои кричалки и выкрикивала на весь двор: «Я люблю динозавров, и драконов, и лягушек, и змей, и червяков». Но к пяти годам что-то изменилось. Ты, кажется, поняла, что кроме актуальной темы (драконы, змеи, червяки) хорошая песня должна быть еще складно написана, и концы строчек должны рифмоваться друг с другом. Про мелодию ты не понимала, что это такое, но чувствовала, что что-то такое есть, поэтому, девочка моя, ты пела на манер фольклорной бабушки из глухой деревни, уверенной, что надо подпереть кулаком щеку, сделать грустные глаза, и тогда уж точно песня хорошо получится.
А жила ты все лето на петербургской даче, то есть вдали от меня. И на время твоего отъезда приходился мой день рождения, что само по себе было неприятно, поскольку лет мне сравнялось в аккурат для пушкинской дуэли и ничего еще не написано было мной сопоставимого с «Евгением Онегиным» или «Капитанской дочкой». Да, кроме того, еще под самый день рождения я заболел, валялся с температурой 39,5, практически не мог разговаривать, оттого что ужасно болело горло, и выпить даже не мог, поскольку лекарства, которыми меня лечили, несовместимы с алкоголем. Лежал как бревно, если только можно представить себе трясущееся от озноба бревно. И тут позвонила ты:
– Папочка, поздравляю тебя с днем рождения.
– Спасибо, Варенька, как ты там?
Мой вопрос, похоже, сбил тебя с толку, и ты забыла заготовленную формулу поздравления:
– Поздравляю тебя и желаю тебе приятного здоровья.
Я улыбнулся, хотя улыбка тоже отдалась болью в горле. Мне понравилось твое пожелание. Я подумал, что вот же никогда не приходило мне в голову, что здоровье бывает приятным и неприятным. Что вот, например, молодежное движение «Наши», без сомнения, представляет собою здоровые силы общества, но здоровье у них какое-то неприятное. У меня была температура, мысли прыгали. Ты тем временем сказала:
– А сейчас я тебе спою песню.
И начала петь тихим и грустным голосочком песенку: «На веселом на ромашковом лугу» – так, словно на веселый ромашковый луг вот-вот нагрянет молодежное движение «Наши».
– А еще я тебе почитаю книжку, – продолжала ты. – Я тут на даче совсем хорошо научилась читать сама и почитаю тебе сейчас книжку. Правда, книжки у меня с собой нет, но это неважно, я все равно помню ее наизусть.
И ты прочла мне стихотворение: «Что случилось у котят, почему они не спят».
– А еще, – продолжала ты, – я расскажу тебе, как спасла вороненка. По дороге на озеро я нашла в кустах молодого вороненка и хотела поймать его. А он от меня улетал, запутался в ветках и упал в воду. А я тогда быстро докричалась до деда, который гулял со мной вместе, и дед достал молодого вороненка из воды, он обсох и улетел. – Пауза. – Вороненок, не дед.
Я мямлил невразумительные слова умиления, насколько позволяло горло, восхищался твоими подвигами, просил тебя говорить в трубку и, рассказывая, не жестикулировать той рукой, в которой держишь телефон, а ты продолжала:
– Еще я расскажу тебе, как поймала уклейку сто грамм. Мы с Гошей и с дедом ходили на озеро ловить рыбу. Закинули удочки. Я легла на мостки и смотрела на поплавок, пока он не клюнул. Тогда я потянула за удочку и вытащила уклейку сто грамм. Посадила в банку, отнесла домой бабушке, и бабушка мне ее сварила.
– И ты что же, – спрашиваю, – съела эту рыбку?
– Нет, я ее только попробовала, а есть не стала.
Твой голосок отдалялся в телефонной трубке, но я все еще отчетливо разбирал твои слова. Ты говорила:
– Бабушка, там папа болеет, почти ничего не говорит, а у меня уже окончились все песни, книжки и истории, чтоб развлекать его. Поразвлекай его теперь ты, а я пойду на качелях покачаюсь.
Я слышал в телефоне твои шаги и скрип качелей. Бабушка присоединялась к поздравлениям внучки, в свою очередь желала мне «приятного здоровья». Потом твои шаги возвратились. Ты, похоже, вырвала трубку из бабушкиных рук и прокричала:
– А еще я тебе счастья желаю. И целую.
34
Ты, надо сказать, заметно повзрослела в то лето на даче с бабушкой, дедушкой и без родителей, когда тебе исполнилось пять. Хрестоматийное детство «от двух до пяти» действительно как-то мгновенно кончилось у тебя, как только тебе стало пять. Во-первых, долго не стригли, и на голове у тебя образовался огромный рыжий шар из непослушных локонов, которые ты запрещала чесать. Во-вторых, ты с гордостью сообщила мне, что научилась пить свежевыжатые соки, впрочем, пока только из мандаринов.
– Ты же хотел, папа, чтоб я разучилась пить сок из пакета и научилась пить свежий сок, – сказала мне ты по телефону. – Так вот, я научилась, и ты теперь привези мне соковыжималку, чтоб можно было делать сок из бананов, яблока и морковки.
В-третьих, ты стребовала с бабушки ночную рубашку, говорила, что похожа в этой ночной рубашке на девочку Венди из фильма про Питера Пэна, хотя, если честно, как тебя ни одевай, все равно в пять лет ты была похожа не столько на Венди из фильма про Питера Пэна, сколько на самого Питера Пэна. В-четвертых, ты научилась петь «индейскую песню», представлявшую собой заполошное улюлюканье. И исполняла ее каждый вечер перед сном.
В-пятых, ты стала гулять сама по себе. Километр от дома на озеро и обратно. Пока взрослые шли по дороге в обход соседских участков, ты норовила пройти напрямую, через участки дружков твоих Гоши и Яны, а потом – через лес одна. Твоя рыжая голова, просовываясь в приоткрытую калитку, у всякого нормального человека вызывала улыбку и возглас «Здравствуй, Варенька, заходи!». И ты бесконечно пользовалась своим обаянием, чтобы сократить путь на озеро и заодно насладиться самостоятельностью, когда идешь, вот такая маленькая девочка, по лесу одна.
И вот (помнишь ли?) был выходной день. Мы приехали из Москвы навестить вас, а вы на радостях демонстрировали лучшее, на что были способны. Старший Вася, учащийся специальной химической школы, мастерил взрывчатку из купленных в аптеке вполне себе простых ингредиентов и, взорвав взрывчатку, переходил к разговорам о деле ЮКОСа и правах человека, поскольку понимал, что родители всячески приветствуют его школьное прилежание и нарождающуюся гражданскую позицию. Младшая же ты садилась попой в лужу, залезала на дерево, качалась на качелях, горланила песни, поскольку не понимала, но чувствовала, что родители всячески приветствуют в твоем поведении проявления беззаботности и счастья.