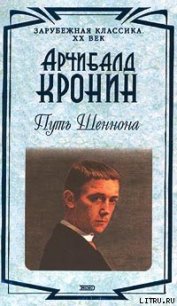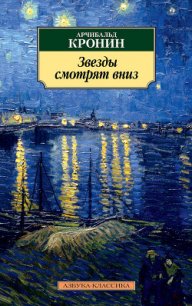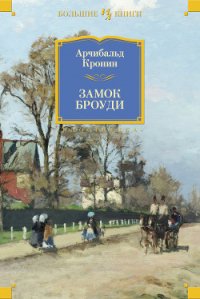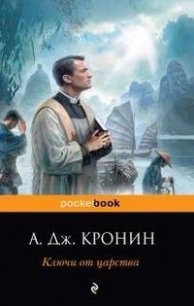Юные годы. Путь Шеннона - Кронин Арчибальд Джозеф (мир книг TXT, FB2) 📗
– Благодарю вас, сударыня. – Дедушка снова поклонился и, подождав, пока сядет сестра Цецилия, уселся на свое место. – Сначала я должен открыто и честно признаться, что я не принадлежу к вашей вере. Вы, очевидно, в курсе тех исключительных обстоятельств, которые осложняют жизнь моего маленького внука. – Снова его рука легла мне на голову. – Но вам, конечно, неизвестно, что это я направил его к вам.
– Это делает вам честь, мистер Гау.
Дедушка с каким-то грустным видом протестующе махнул рукой.
– Хотел бы я быть достойным ваших похвал. Но, увы, мои побуждения, во всяком случае вначале, были продиктованы рассудком – холодным рассудком гражданина мира. Однако, сударыня… или, может быть, я могу называть вас «сестра»? – Он помолчал и, дождавшись, когда сестра Цецилия смущенно наклонила голову в знак согласия, продолжал: – Однако, сестра, с тех пор, как мой внучек начал ходить к вам, особенно с тех пор, как вы, сестра, взяли на себя попечительство о занятиях, я почувствовал глубокое умиление… меня все больше и больше стали привлекать прекрасные и простые истины, слетающие с ваших уст.
Сестра Цецилия вспыхнула от удовольствия.
– Конечно, – продолжал дедушка более грустным, но самым своим чарующим тоном, – жизнь моя не была безупречной. Я немало порыскал по свету. В моих скитаниях… – (Разинув от удивления рот, я взглянул на него: неужели он снова станет рассказывать про зулусов? Но нет, он не стал.) – В моих скитаниях, сестра Цецилия, мне не раз приходилось сталкиваться с большим соблазном, которому тем более трудно противостоять, когда у такого чертовски несчастного человека – ах, простите, пожалуйста! – когда у бедного малого нет никого, кто мог бы позаботиться о нем. Любому человеку жизнь покажется бесконечно тягостной, если возле него нет славной любящей женщины. – Он вздохнул. – Чего же удивительного, если сейчас… у такого человека может появиться желание прийти сюда… в поисках душевного покоя?
Сестру Цецилию явно взволновала эта речь. Ее румяные щечки так и пылали, а затуманившиеся слезою глаза с состраданием смотрели на дедушку, жалея его погибшую душу. Сжав руки, она пробормотала:
– Это очень поучительно. Я убеждена, что, если вы действительно хотите покаяться, каноник Рош будет счастлив помочь вам.
Дедушка высморкался, потом с улыбкой сожаления покачал головой.
– Каноник хороший человек, на редкость хороший… но что-то не очень симпатичный. Нет, вот если б мне разрешили приходить с Робертом на занятия, сесть где-нибудь в уголке и слушать, то, мне кажется…
Тень сомнения пробежала по лицу сестры Цецилии, словно тучка по прозрачной воде пруда. Но как видно, она больше всего опасалась расхолодить дедушку или обидеть.
– Боюсь, мистер Гау, что ваше присутствие будет отвлекать детей. Но что-нибудь, конечно, можно придумать. Я непременно поговорю с нашей настоятельницей.
Дедушка одарил ее своей самой чарующей улыбкой – да, повторяю, несмотря на его уродливый нос, улыбка у него была неотразимо чарующая. Он встал и пожал руку сестре Цецилии, вернее, не пожал, а подержал ее пальцы в своих, точно хотел нагнуться и почтительно поцеловать их. И хотя он не сделал этого, щечки сестры Цецилии еще долго горели после его ухода, а когда она рассказывала нам историю блудного сына, ее серьезные глаза увлажнились слезой.
Выйдя из монастыря, я увидел дедушку, он прогуливался у ворот, поджидая меня; дедушка был в наипрекраснейшем расположении духа, помахивал палкой и что-то напевал. По пути домой он читал мне лекцию насчет облагораживающего влияния хороших женщин, потом вдруг прерывал сам себя и начинал петь или приговаривал: «Прелесть. Просто прелесть!» Я слушал его не без волнения, ибо последние недели сам переживал большие трудности – о чем речь будет ниже, – и все из-за женщин. Тем не менее я был рад, что сестра Цецилия и строгая тишина опрятной монастырской приемной произвели такое прекрасное впечатление на дедушку.
Он тактично пропустил неделю и затем решил нанести следующий визит, избрав для этого солнечный день, когда, по его словам, «в саду будет особенно хорошо». Он уже представлял себя сидящим рядом со мной на лужайке. Он тщательнее обычного приводил себя в порядок и долго возился перед зеркалом, подстригая бороду, что он иногда делал, когда собирался к миссис Босомли. Всегда неравнодушный к чистому белью, он надел свою лучшую белую рубашку, которую сам выстирал и выгладил. Он даже продел в петлицу пучок незабудок, яркая голубизна которых так подходила к цвету его глаз. Затем он взял меня за руку, приосанился, и мы быстрым шагом направились в монастырь.
Увы! В маленькую приемную к нам вышла не сестра Цецилия, а мать Элизабет-Джозефина, еще более суровая, чем обычно, и не вполне оправившаяся после воспаления желчного пузыря. У дедушки сразу вытянулось лицо, а его приветственная улыбка застыла, словно прихваченная морозом; достопочтенная же настоятельница резким тоном приказала мне идти на лужайку, где мы занимались.
Минуту спустя, уже сидя на поросшем травою склоне, я услышал, как хлопнула входная дверь от толчка сильной руки. А затем сквозь деревья я увидел, как дедушка спустился по ступенькам и пошел по аллее к выходу. Хотя на таком расстоянии я едва ли мог рассмотреть толком, он, по-моему, был смущен и ужасно пришиблен. Когда после краткого, отрывистого наставления достопочтенная мать Элизабет-Джозефина отпустила нас и я вышел к воротам, дедушки там не было. А вечером я заметил, что он вынул из петлицы голубые незабудки.
Бедный дедушка! Меня очень тревожило, что его покаянное настроение так скоро прошло, но праздник Тела Господня, приходящийся на последний четверг месяца, был не за горами, и я пребывал в том состоянии возбуждения, когда то и дело переходишь от отчаяния к блаженству. Прежде чем я вкушу сладостную благость причастия, мне придется пройти сквозь пытку первой исповеди. Несколько раз уже каноник Рош беседовал с нами на эту тему, и хотя говорил он в сдержанных тонах, я начал смутно понимать, какие страшные ловушки готовит природа ничего не подозревающим детям. Начал я кое-что понимать и в разнице полов. Слово «непорочность» было произнесено нашим пастырем хоть и мягко, но достаточно веско. И тут из тумана передо мной вдруг возникло сознание моего греха. О боже, как я грешен: я совершил самый страшный, непростительный грех. Никогда, никогда не смогу я рассказать об этом канонику.
А придется рассказать. Проклятие, тяготеющее над теми, кто «плохо» исповедался, даже страшнее того, что тяготеет над теми, кто «плохо» причастился. Сердце у меня екнуло: я понял, что мне придется открыться в моем позоре… Ох, какая мука сознавать, что нет избавления!
Наконец роковой день и роковой час настали. Весь потный от страха и стыда, я, спотыкаясь, прошел в темную исповедальню под витражом, изображающим «Спасителя, несущего свой крест», где каноник Рош ждал меня. Ноги у меня подкосились, и я гулко ударился голыми коленями о голые доски. И заплакал.
– Отец, отец, простите меня. Я такой скверный, мне так ужасно стыдно.
– В чем дело, дорогое дитя? – Мягкое поощрение, звучавшее в сдержанно суровом тоне, лишь усилило мое горе. – Ты сказал какое-нибудь дурное слово?
– Нет, отец, хуже, гораздо хуже.
– Что же это, дитя?
И я выпалил:
– Ох, отец, я спал со своей бабушкой.
Почудилось мне это или за таинственной решеткой в самом деле раздался веселый смех? А быть может, это просто был отзвук моих рыданий?
Глава 12
Праздник Тела Господня наступил; проснувшись утром, я увидел серое небо – такое же серое, как тело мертвого Иисуса, когда Его сняли с креста. Всю ночь я проворочался на соломенном матраце в своем уголке на кухне; лишь временами мне удавалось вздремнуть, и тогда мне снилось, что живой младенец Иисус спит со мной рядом – его хорошенькая головка лежала у меня на подушке, а мягкая щечка прижималась к моей. Я просыпался, от души надеясь, что не согрешил во сне. Потом меня стали мучить сомнения: не повинен ли я в «бесстыдстве», когда раздеваюсь? Не смотрел ли я «нечистым» взглядом на распятие, или на статую Мадонны, или еще на что-нибудь? Наложив печать на глаза и уста, бреду я, спотыкаясь, по земле, боясь, как бы не впасть в грех. Мне так хочется не просто «хорошо», а «отлично» причаститься, что в подтверждение этого я стал отыскивать знамения и прочие знаки небесного благоволения. Посмотрю, например, на небо и скажу себе: «Если я увижу облако, похожее на лицо святого Иосифа, я замечательно причащусь». И вот я запрокидываю голову и, прищурившись, изо всех сил пытаюсь найти в воздушных туманностях профиль святого, хотя бы его бороду. Или подниму с дороги три камушка – по числу Святой Троицы – и скажу себе, что если одним из них попаду в угловой фонарь, значит отлично причащусь. Но я тут же отказываюсь от своих попыток из боязни совершить святотатство.