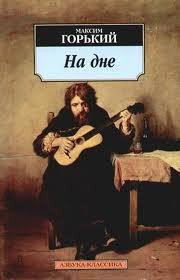В людях - Горький Максим (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они - бородатые и безбородые - были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдалённые от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь её, то забываешь - день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь всё! Замрут голоса певцов, - слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустранимо двигается с поля осенняя ночь; а сердце растёт и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.
Маленький, медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным - сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним. Когда он спрашивал меня о чём-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущённо. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поёт.
Однажды я видел, как он, стоя в углу конюшни, подняв к лицу руку, рассматривает надетое на пальце гладкое серебряное кольцо; его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное.
Но как-то раз, тёмным вечером, я пришёл с клетками в трактир на Старой Сенной площади, трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня.
Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной; с ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, её круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно; он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины, - она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько:
- Не дурите...
Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко, он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы докрасна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери; она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущённо, - нечем было ответить на заслуженные упрёки.
Вдруг он встал, словно уколотый, неверно - низко на лоб - надел фуражку, пришлёпнул её ладонью и, не застегиваясь, пошёл к двери; женщина тоже поднялась, сказав трактирщику:
- Мы сейчас воротимся, Кузьмич...
Люди проводили их смехом, шутками. Кто-то сказал густо и сурово:
- Вернётся лоцман, - он ей задаст!
Я ушёл вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:
- Куда же вы? Ну, куда же?
Я пошёл за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели откоса, казак остановился, отошёл от женщины на шаг и вдруг ударил её в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:
- Ой, да за что же это?
Я тоже испугался; подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперёк тела, перебросил её через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатились вниз, по траве откоса, чёрной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвётся платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:
- Я закричу... закричу...
Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз, - зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.
Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, - я различаю женщину. Она идёт на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят её большие груди, и кажется, что у неё три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне её тела ясно видны тёмные пятна грязи; она плачет, стирает слёзы со щёк движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:
- Господи - кто это? Уйди, бесстыдник!
Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, - мне вспоминаются слова бабушкиной сестры:
"Баба - сила, Ева самого бога обманула..."
Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил весёлым голосом:
- Дарья! Что? Казак всегда возьмёт что надо... ты думала - пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья!
Он стоит твердо, голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова:
- Эй, возьми кофту... Дашк! Да не ломайся...
И казак громко произнёс позорное женщине слово.
Я сижу на куче щебня, слушая этот голос, одинокий в ночной тишине и такой подавляюще властный.
Перед глазами пляшут огни фонарей на площади; справа, в чёрной куче деревьев, возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идёт на площадь, помахивая белым тряпьём, и наконец исчезает, как дурной сон.
Внизу, под откосом, на водокачке пыхтит пароотводная трубка, по съезду катится пролётка извозчика, вокруг - ни души. Отравленный, я иду вдоль откоса, сжимая в руке холодный камень, - я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая - кто я, что несу за спиной в мешке.
Я подробно рассказал ему о казаке - он начал хохотать, покрикивая:
- Ловко-о! Казаки, брат, дотошный народ, они не нам чета! А бабёнка-то сука...
Он подавился смехом, а я пошёл дальше, не понимая - над чем же он смеётся?
И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?
VIII
Когда выпал снег, дед снова отвёл меня к сестре бабушки.
- Это не худо для тебя, не худо, - говорил он мне.
Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Всё так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьёт детям бельё, то тихонько поёт всегда одну песню:
Спиря, Спиря, Спиридон,
Спиря, братик мой родной;
Сама сяду в саночки,
Спирю - на запяточки...
Если войти в комнату, она тотчас перестаёт петь и сердито кричит:
- Чего тебе?
Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.
Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:
- Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе!
Я сажусь на стул около двери уборной и говорю; мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но - ненадолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:
- А всё-таки поди-ка боязно?
Я не понимаю - чего бояться?
- А вдруг он свернёт на глубокое место да и потонет!
Хозяин хохочет, а я - хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, - не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идёт, упираясь колёсами в дно реки, как телега по земле.
- Коли он железный, как же он плывёт? Небось топор не плавает...
- А ковш ведь не тонет в воде?
- Сравнил! Ковш - маленький, пустой...
Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.