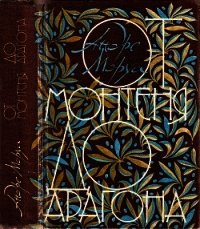Превратности любви - Моруа Андре (книги онлайн .TXT) 📗
Часть вторая
ИЗАБЕЛЛА
I
Филипп, сегодня вечером я пришла поработать в твой кабинет. Когда я входила, мне не верилось, что я не застану тебя здесь. Для меня ты по-прежнему живой, Филипп. Я вижу, как ты сидишь вот в этом кресле, поджав под себя ноги, с книгой в руках. Вижу тебя за столом в те минуты, когда взор твой блуждал где-то далеко и ты переставал слушать, что я говорю. Вижу, как ты разговариваешь с кем-нибудь из друзей и без конца вертишь в длинных пальцах карандаш или резинку. Я всегда любовалась твоими жестами.
Уже три месяца минуло с той страшной ночи. Ты мне сказал: «Мне душно, Изабелла, я умираю». Мне все еще слышится этот голос, уже не похожий на твой. Забуду ли я его? Самым ужасным мне кажется то, что и сама моя скорбь, конечно, тоже умрет. Если бы ты только знал, как мне становилось грустно, когда ты со свойственной тебе беспощадной искренностью говорил: «Теперь я утратил Одилию навеки. Я уже даже не могу представить себе ее черты».
Ты очень любил ее, Филипп. Недавно я опять прочла подробный рассказ, который ты мне прислал перед нашей свадьбой, и я позавидовала ей. От нее останется по крайней мере эта исповедь. От меня – ничего. А все-таки и меня ты тоже любил. Передо мною твои первые письма – письма 1919 года. Да, тогда ты любил меня; любил, пожалуй, даже слишком. Помню, как однажды я сказала тебе: «Вы оцениваете меня в триста, а стою я не больше сорока, и это, Филипп, ужасно. Когда вы обнаружите свою оплошность, вам покажется, что я стою десять, а то и вовсе ничего». Таков уж ты был. Ты вспоминал, что Одилия тебе говорила: «Вы чересчур многого ждете от женщин. Вы слишком превозносите их; это опасно». Она, бедняжка, была права!
Последние две недели я борюсь с желанием, которое день ото дня становится все сильнее. Мне хочется для самой себя запечатлеть свою любовь, как ты для себя запечатлел свою. Думаешь ли ты, Филипп, что мне удастся – пусть неумело – описать нашу историю? Следовало бы это сделать, как сделал ты, – с полной беспристрастностью, с великим усилием, чтобы не утаить ничего. Чувствую, что это будет трудно. Всегда возникает опасность растрогаться и изобразить себя такой, какой хотелось бы быть. Меня это касается в особенности, ты сам упрекал меня в том, что я жалею самое себя. «Не жалей себя», – говорил ты. Но у меня сохранились твои письма, сохранилась красная записная книжка, которую ты так тщательно прятал, сохранился дневник, который я завела было и который ты меня просил бросить. Не попробовать ли? Я сажусь на твое место. Зеленый кожаный бювар, закапанный чернилами, напоминает мне о руке, которая так часто касалась его. Вокруг меня – жуткое безмолвие. Не попробовать ли?..
II
Дом на улице Ампера. В кадках, обтянутых зеленым сукном, высокие пальмы. Готическая столовая; буфет с выступающими рыльцами химер; стулья, на жестких спинках которых вырезана голова Квазимодо. Гостиная, обитая красным штофом, кресла с излишней позолотой. Моя девичья комната, выкрашенная в целомудренный белый цвет, который со временем превратился в грязноватый. Классная комната и запасная, куда складывали ненужную мебель и где в дни больших приемов я обедала со своей воспитательницей. Не раз нам с мадемуазель Шовьер приходилось ждать часов до десяти. Сбившийся с ног, усталый, раздраженный лакей приносил нам на подносе загустевший суп, растаявшее мороженое. Мне думалось, что он, как и я сама, понимает, до чего незаметную, почти унизительную, роль играет в этом доме единственный ребенок.
Ах, какое грустное было у меня детство! «Вам так кажется, дорогая», – говорил Филипп. Нет, я не ошибаюсь. Я была очень несчастна. Вина ли тут моих родителей? Я часто упрекала их. Теперь, умиротворенная более глубокой скорбью, хладнокровнее смотря в прошлое, я признаю, что они верили в правильность того, что делали. Но метод их был чересчур суров, опасен, и, думается мне, результаты подтверждают его полную негодность.
Я говорю «родители», а следовало бы говорить «мать», ибо отец, человек очень занятой, не требовал от дочери ничего другого, как только не вертеться на виду и вести себя тихо. Его недоступность долгое время придавала ему в моих глазах особое величие. Я считала его своим естественным союзником против матери по той причине, что раза два-три слышала, как он в скептически-шутливом тоне отвечал ей, когда она сокрушалась о моем дурном характере:
– Вы напоминаете мне моего начальника, господина Делькассе: он прячется за Европу и говорит при этом, что толкает ее вперед… Вы думаете, что можно влиять на формирование характера… Нет, дорогая, мы мним себя актерами, а на самом деле мы всего лишь зрители.
Мама бросала на него взгляды, полные упрека, и беспокойным жестом указывала на меня. Она была не злая, но она приносила и мое и свое счастье в жертву воображаемым бедам. Позже Филипп как-то сказал мне:
– Ваша мать страдает всего лишь гипертрофией осторожности.
Он был прав. Мать считала человеческую жизнь суровой битвой, для которой надо себя закалять. «Избалованная девочка превращается в несчастную женщину, – говорила она. – Не следует приучать ребенка к мысли, что он богат; одному Богу известно, что готовит ему жизнь». Или: «Хвалить девушку – значит оказывать ей дурную услугу». И вот она постоянно твердила мне, что я отнюдь не красавица и вряд ли кому-нибудь понравлюсь. Она видела, что слова ее огорчают меня до слез, но детство в ее глазах было тем же, чем является земная жизнь в представлении людей, которые страшатся ада; надлежало – пусть ценою жестоких лишений – вести мою душу и тело к возможному земному спасению, на пороге которого брак является как бы Страшным судом.
Впрочем, такое воспитание, быть может, и оказалось бы вполне разумным, будь у меня, как у нее, сильная душа, уверенность в себе и незаурядная красота. Но я была от природы робкой и под влиянием постоянной боязни стала нелюдимой. С одиннадцати лет я начала избегать людей и искать убежища в книгах. Особенно нравилась мне история. В пятнадцать лет моими любимыми героинями были Жанна д'Арк, Шарлотта Корде; в восемнадцать – Луиза де Лавальер. Мне доставляло странное наслаждение читать о страданиях кармелитки, о казни Жанны д'Арк. Мне казалось, что и я нашла бы в себе беспредельные физические силы для подвига. Отец питал глубокое презрение к страху и заставлял меня, когда я еще была совсем маленькой, проводить целую ночь в саду одной. Если я болела, он требовал, чтобы меня лечили без жалости, без нежностей. Я приучилась относиться к посещениям дантиста как к определенным этапам героического подвижничества.
Когда отец расстался с набережной д'Орсэ и был назначен послом в Белград, мама стала на несколько месяцев в году запирать наш особняк на улице Ампера, а меня отсылать к бабушке и дедушке в Лозер. Там я чувствовала себя еще несчастнее. Я не любила деревни. Памятники я предпочитала пейзажам, храмы – лесам. Когда я перечитываю свой девичий дневник, у меня такое впечатление, будто я медленно пролетаю над пустыней скуки. Мне казалось, что моему шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому году не будет конца. Искренне считая, что они хорошо меня воспитывают, родители убивали во мне вкус к счастью. Первый бал, который остается в памяти большинства женщин как лучезарное, радостное событие, у меня связан с мучительным, неизгладимым чувством унижения. Это произошло в 1913 году. По распоряжению мамы платье мне было сшито дома, ее горничной. Оно получилось безобразное, я это знала, но мама глубоко презирала роскошь. «Мужчины не смотрят на платья, – говорила она, – женщину любят не за то, что на ней надето». В свете я успеха не имела. Я была девушкой угловатой и очень нуждалась в ласке. Меня сочли замкнутой, неловкой, с претензиями. Я казалась замкнутой потому, что постоянно сдерживала себя, неловкой потому, что мне никогда не давали свободно высказываться и свободно поступать, с претензиями – потому, что, будучи чересчур застенчива, чересчур скромна, чтобы изящно говорить о себе или о забавных пустяках, я искала прибежища в серьезных темах. На балах мой строгий, несколько педантичный вид отпугивал молодых людей. Ах, как я призывала того, кому удалось бы вырвать меня из этого рабства, избавить от долгих месяцев, которые я проводила в Лозере, где я ни с кем не виделась, где я с утра знала, что день пройдет без малейших событий, если не считать часовой прогулки в сопровождении мадемуазель Шовьер! Человек этот представлялся мне прекрасным, пленительным. Каждый раз, когда в Опере давали «Зигфрида», я умоляла мадемуазель Шовьер упросить родителей, чтобы меня сводили в театр, потому что в своих собственных глазах я была плененной валькирией, которую мог освободить только герой.