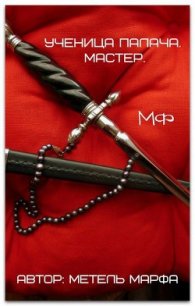Невские берега (СИ) - "Арминьо" (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Мы отлабали этот фест, ясное дело, не снискали первого приза - да и не ждали его. Нашим призом были билеты в плацкартном вагоне, а это значило, что весь прайс за сольник доставался нам, за вычетом доли клуба. Это грело душу и сердце, тем более что Женечка Летнева уже три дня висела на телефоне и обзванивала пол-Москвы, сзывая публику на концерт. Какой-то народ, очарованный нашей гениальной группой, подвалил с феста, сарафанное радио работало, - в итоге клубик “Ф” мы набили практически под завязку. Михалыч радостно потирал живот и выбивал на настройке чистую пионерскую дробь, что с ним случалось, только если ему все нравилось. На дверях клуба висела афиша с залихватским ондатром, нас узнавали в лицо пиплы, безыдейно шлявшиеся возле клуба, весна уже практически началась, и жизнь обещала быть привольной и вальяжной.
На втором отделении, когда мы, раздухарившись, отваляли всю положенную и открученную программу, был объявлен московский концерт по заявкам. Мы пели и пели - пипл одобрительно шумел, топал, подпевал и подхлопывал, все было отлично… пока внезапно на крошечной сцене не появилась записка, обернутая вокруг рюмки с коньяком. Фундаментальность подхода должна была насторожить сама по себе. На желтоватом листочке из ежедневника четким почерком было написано два слова - “Комсомольское сердце”. Коньяк я выпил машинально. Может быть, сама по себе записка ничего бы и не значила. Всякое бывает, вдруг кому и в Москве был известен этот древний раритет. Но послать на сцену коньяк могло прийти в голову только одному человеку. Одному, мать его, чертову человеку. В рожу шпарил софит. Вернее, целых три: белый, красный и зеленый. Зал тонул в темном мареве, перед глазами плыли пятна, жарко от этой цветомузыки было просто как в аду, я ровным счетом ничего не видел в этой чертовой яме за пределом подсветки. Ясное дело, никто из моих этого старья не помнил - чудо, что текст всплыл в памяти. Я снял басуху, одолжил у Геннадия гитару и сказал в микрофон: “Тим, мать твою, никуда не уходи после сейшена”. После этого спел “Комсомольское сердце”, Михалыч оживился, стал постукивать палочками по ободу, а потом устроил цыганочку с выходом - и весь конец песни у нас пошел под самую что ни на есть дробь, типа той, под которую белогвардейцы расстреливали комсомольцев в фильмах про кровавые ужасы гражданской войны. Зал, ясное дело, лежал, но мне уже как-то было не до зала. Мы играли еще полчаса, пока наше время не вышло, а потом еще пару песен на бис, а у меня в голове торчала гвоздем лишь одна мысль: свалит он или останется. К концу я был практически уверен, что никакого Тима тут уже, конечно, нет.
***
Никуда я, конечно, не свалил. Сидел, ждал, черкал в ежедневнике. Концерт закончился, Сашка, кажется, даже "Комсомолькое сердце" спел. Неважно. Я вообще музыку не очень. Так и не привык.
Тим - это имя я не слышал сто лет. Тимур Сергеевич, это да.
Я не хотел подходить, играл сам с собой в идиотскую игру "узнает-не узнает". Хотя мою испанскую рожу сложно не узнать. Смотрел в стол. Сэн методично обошел зал, разговаривая и пересмеиваясь с набежавшими почитателями, узнал, отодвинул стул, сел напротив.
- Здорово, комиссар! - неизбежное, да.
Я улыбнулся, тряхнул головой, отбрасывая прошедшее время, как что-то незначительное. Протянул ему руку.
- Здорово, Гонтарев! А я иду - смотрю, афиша. Дай, думаю, зайду.
Мы помолчали. На Гонтарева напрыгнула какая-то щебечущая герла, он отмахнулся.
- Ага! - он тоже улыбался, а глаза смотрели настороженно. Не улыбались как-то. - А я играю - смотрю, записка, коньяк. Ничего себе, думаю…
Мы помолчали еще.
- Ты надолго в Первопрестольной?
- Завтра уезжаем.
- Я тут живу недалеко. Может зайдешь?
- Это можно. Сейчас своим скажу. Ты не уходи пока.
Сашка поднялся, утек обратно в гомонящую толпу. Обернулся, нашарил меня взглядом. Я кивнул.
Куда я уйду. Сидел, ждал.
Потом все разошлись, а мы вышли на воздух, дышать в этом клубе было нечем совсем. На улице припустил дождь, сильный, ветер обрывал веточки, сильно пахло мокрым асфальтом. В воде отражались фонари, намокшая пыль сбивалась в пену по краям луж. У меня промокли ботинки. Я принужденно рассмеялся.
- Вымокнем.
- Тут недалеко.
Гонтарев вдруг взял меня за плечи и развернул к себе. Под фонарем, ага. Вгляделся. Я ткнулся ему мордой в плечо. Дождевая вода текла за шиворот.
Нельзя сказать, что я его не вспоминал. Хотя нет. Старался не вспоминать. Мы тогда поговорили с отцом, ну, после того случая. Союз стремительно разваливался, папины знакомые сколачивали себе капиталы, он тоже не отставал. Как-то между делом взял меня за пуговицу и сказал: сынок, я в твои дела не лезу, но ты эти пидорские штучки брось.
Ну и прибавил пару фраз про привычки и обычаи своих подельников, доходчиво, в принципе, было объяснено. Дело есть дело, а матушка Россия… да.
В Лондоне, где я летом на языковые курсы мотался, я даже пробовал встречаться с одним парнем, там это запросто. В кафе ходили. Но что-то не сложилось, языковой барьер, наверное. Или слишком похож был на Сашку - только вот не он. Короче, не сложилось. И теперь я стоял, как заколдованный, мерз под дождем, чувствовал щекой теплое дыхание и клял все на свете. Любопытство идиотское, которое меня в клуб занесло. Р-риварес.
- Замерз, комиссарище? - Гонтарев зачем-то потрогал меня за ухо.
- Нормально. Пошли домой.
Я стиснул зубы, отлепился и мы пошли на Кутузовский, в мою разоренную квартиру с распахнутыми настежь окнами.
***
Квартира странным образом не говорила ничего. Я как-то ждал - может, космические модельки, может, картинки какие на стене… Ничего. Ни от папы его, ни от прежнего моего комиссара, внутреннего партизана Тимура Ривареса-Славко. Обычная такая - хоть сериал в ней снимай из жизни менеджеров высшего звена. Мы швырнули куртки в прихожей, дождь старался вовсю, даже, кажется, где-то вдалеке грохнуло пару раз. Москва огромная, одной грозой ее целиком не накроет. “Есть хочешь?” - спросил Тимур, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана телефон и заказал каких-то пицц. Через полчаса нам их уже притаранили, огромные, раскаленные колеса в картонке, пахли они, кстати, замечательно, уж на что я не любитель. А впрочем, после сейшена что угодно сожрешь. Надеюсь, “Ондатры” найдут, что заточить, да впрочем, что я - их сестрички Летневы опекают, как сироток из блокадного города. Эти полчаса мы сидели за столом и молчали. Потом, когда курьер протиснулся с коробом в дверь, Тим грохнул картонки на стол, вышел в комнату и принес округлую бутылку коньяка. Непочатую. “Ну, - обворожительно усмехнулся комиссар, - за знакомство, Сэн?”
Я смотрел на него и глаз не мог отвести. Это был тот же комиссар, мой когда-то лучший друг, вернее, тот, кем он мог тогда только мечтать быть. Стильный, смуглый, волосы забраны в хвост, как у индейца или пирата, и при этом мне почему-то отчетливо вспомнился папа Славко в телефоне. “Понимает в жизни… соображает”. Определенно, что-то такое было в Тиме, в этом Тиме десять лет спустя, что принадлежало Славко. Не Риваресам, какие бы они там ни были. Вот никогда же я не видел его папеньку, а присутствие его отчего-то почувствовал. Как будто он в соседней комнате сидит. Надо бы было спросить, как жизнь молодая, как делишки, есть ли детишки, да мало ли о чем спрашивают, если столько лет не виделись. Прям Дюма какой-то. Десять лет спустя, двадцать лет спустя… Хотя десять лет - это еще позже, это уже все тридцать будет. Я потому и не хожу на всякие встречи с одноклассниками, чтоб не молчать дурак дураком с неизвестными тебе людьми. Словно с оборотнем, честное слово, с оборотнем, натянувшем знакомую шкурку нервного красавца-пацана, которого я знал сто лет назад.