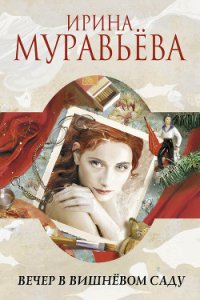Жизнеописание грешницы Аделы (сборник) - Муравьева Ирина Лазаревна (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Марат Моисеич снял трубку. Но в трубке Виола рыдала так бурно, что слов было не разобрать.
– Даю тебе маму, – сказал Марат Вольпин.
– Я слушаю вас, – прожурчала Адела.
– Прости меня! Мама! Ты слышишь? Прости!
Лицо у Аделы менялось: краснело, потом стало белым, потом задрожало.
– Прости меня! Мамочка! Мамочка! Ма-а-ама-а!
Виола рыдала. И чем глубже становился звук ее рыданий, чем меньше слов могла она втиснуть в эту содрогающуюся, влажную, взвизгивающую и хрипящую массу, которая услаждала слух и залечивала сердечную боль ее матери, тем ярче, моложе и даже красивей был облик давно постаревшей Аделы. Мысленным взором своим она видела дочь, растерзанную так, как бывает растерзан человек, заблудившийся в лесу и ставший добычей для дикого зверя. Теперь эта дочь не была ей опасна, лежала у ног ее – грузных, отечных, – как жертвы, залитые черною кровью, лежат на своих алтарях и дымятся; но все же она не была еще мертвой, и только Адела решала сегодня, что делать с покорной распластанной жертвой: добить или дать ей возможность подняться.
– Ну, хватит, Виола, рыдать. Успокойся. Такой разговор стоит денег, а деньги гораздо разумнее тратить на Яну. Как, кстати, ей платье в полоску? Налезло?
Алеша, на следующее утро забежавший к родителям, застал Аделу в саду, в тени апельсинового дерева. Она поднимала к плодами свои руки, потом опускала к корням их, крутила горячим и влажным, расплывшимся торсом.
– Профессор, – сказала она, задыхаясь, – велел каждый день упражненья… И важно при этом дышать глубоко… Он мне объяснил: «Вы всю жизнь не дышали». Теперь я дышу… А вот папа не дышит. Пойди объясни ему. Кончится плохо…
Отец Марат Вольпин завязывал галстук.
– Сегодня идем в синагогу, – сказал Марат Вольпин. – Девятое мая! День нашей Победы. Мы с мамой поем на концерте две песни. Ты должен их знать: «Бьется в тесной печурке…» и «Синенький скромный платочек». Нас больше просили, но мы отказались. Потом будет ужин и, кажется, танцы. Я, впрочем, давно не танцую.
Но по тому, как радостно вспыхнуло отразившееся в зеркале отцовское лицо, Алеша понял, что отец наговаривает на себя и будет плясать, сколько сможет. Мать, по-прежнему стоящая под апельсиновым деревом, ждала его с важным таинственным видом.
– Мы с папой простили Виолу, – сказала она. – Что можно поделать? Всегда была дурой и дурой умрет. Мы простили. Я папе сказала: «Тут нечего делать. Она – наша кровь». И папа со мной согласился. Мы с ним недавно были на лекции по изучению истории еврейского народа. Читал один лектор из Иерусалима. Рассказывал много из Библии. И он говорит: был в Самарии голод, и было две женщины. Одна их этих женщин бросилась к царю в ноги, когда он проходил по стене, и сказала ему, что вот эта, другая, женщина говорила ей: «Отдай своего сына, съедим его сегодня, а моего сына съедим завтра». И она отдала им своего сына, они его сварили и съели. На другой день она сказала той женщине, которая просила ее: «Отдай же теперь ты твоего сына, и мы съедим его». А та женщина спрятала своего сына.
– А царь? – испугался Алеша.
– А царь – как обычно, – снисходительно ответила Адела. – Что царь? Разодрал все одежды. Они же язычники были.
– И часто у вас эти лекции?
– Обычно раз в месяц, – сказала Адела. – Но я не хожу. Хотя мне это важно. Другие послушают и забывают, а мне – прямо в сердце…
Глаза ее вспыхнули.
– Думаешь, я бы дала тебя съесть? Я сама бы всех съела! И кости бы сплюнула. Вот, мой хороший. Ты это запомни: пока я жива, и ты, и сестра твоя не пропадете. Умру и оттуда вас буду хранить. – Она подняла высоко свою руку. – Я часто ведь вижу: вот я умерла. И там говорят мне: «Послушай, Адела! Иди прямо к Богу и все объясни».
– А ты? – И Алеша стал бледным.
– Встаю на колени, ползу. Приползаю. Господь меня ждет. Говорит мне: «Адела! Я знаю, что ты в своей жизни грешила. Зачем ты так много грешила, Адела?» А я говорю Ему: «Что было делать? Послал Ты детей мне, Господь, и оставил. И я – всё одна, всё сама. Что мне делать?» И Он говорит мне: «Ты не беспокойся. Детей твоих Я не оставлю, Адела».
…Слепило глаза от медалей. Ветераны Великой Отечественной войны, перебравшиеся на постоянное место жительства в государство Израиль, пришли в синагогу на праздник. Их жены надели красивые платья, чулки и накрасили губы.
Среди этих женщин, тела которых напоминали опустевшие жилища, где выпиты все запасы вина и с жадностью съедена каждая крошка, Адела казалась царицей. Она и вплыла, как царица. На ее мраморно напудренном лице с ярко, по-театральному нарисованными глазами было такое выражение, как будто ее каждый шаг по земле рождает восторг, а движение взгляда способно повергнуть во прах человека. Черное, в белый горошек платье красиво подчеркивало матовую гладкость ее уже старых, но крепких, как будто слоновой кости, мощно развернутых плеч, ее пышных лопаток, вовсю выпирающих из-под тесемки, украсившей вырез и сзади, и спереди.
Все уже давно знали, что Вольпины – артисты, и это располагало к ним людей; они улыбались им льстиво навстречу, ловили улыбку высокой Аделы и взгляды Марата с густой поволокой. Их номер был третьим на этом концерте. Выйдя на сцену и остановившись слева от своего взволнованно порозовевшего мужа, у которого резкая старческая темнота проступила под его загадочно прищуренными глазами, Адела одернула пышное платье, стараясь, чтоб вырез стал глубже, и в эту минуту глаза ее встретились с теми глазами, которых она до сих пор не забыла.
С того дня, а вернее сказать, с той ночи, когда она последний раз видела эти глаза, они находились слишком близко от ее собственных глаз, и она запомнила их так мучительно, но искаженно, как можно запомнить себя самою. Прошло сорок лет. От его тела, которое она последний раз видела в минуту, когда он, раздвигая тела других людей, притиснутых жарко друг к другу в трамвае, стремился к передней площадке, чтоб прыгнуть на полном ходу и ее не коснуться, – от этого тела осталось немного. Он был теперь жалок и худ, ниже ростом. Ему не хватало – увы – витаминов, а может быть, даже белка и клетчатки, как ей объяснял ленинградский профессор, и это вело к истощению тканей и полному их обветшанию. Что делать… Глаза были мелкими, в складках, в морщинах, но прежняя наглость и голубизна их остались на дне и торчали из складок, как будто бы дерево в солнечных блестках, которое влажно торчит из болота и чудом внутри его не погибает, а так расцветает, как будто на суше.
Она не удивилась тому, что увидела его. Он не имел никакого отношения к ее нынешней жизни и должен был вызвать досаду. Досады, однако, все не возникало. Напротив: ей стало дышать тяжелее, и тонкие струйки холодного пота сползли по спине, растворились под шелком. Сидевший за роялем человек с прилизанными волосами, в профиль напоминающий Вертинского, взял первый аккорд, и Адела запела. Медовым своим, неизменным и сильным, почти перекрывшим Марата контральто.
– Бьется в те-е-есной печу-у-урке огонь…
Она протянула огромные руки к притихшему залу, и зал покорился. Женщины, тела которых напоминали опустевшие жилища, а волосы, тонкие, как паутина, не прятали кожи их жалких затылков, всплакнули негромко. Мужчины прижали ладони к глазам. Эх, всякое было! Конечно, печурка… И в ней огонек… А куда оно делось? Вчера вот сидел, наклонившись к печурке, портянки сушил, а сегодня? Сам старый, в ушах аппарат, и что-то все время скребется и ноет под правым коленом, как будто там мыши, а может, не мыши… Жена держит руку на этом колене, а пальцы жены, как сучки, все в наростах…
Потом они спели про синий платочек. Марат обхватил ее нежно за плечи, и люди растрогались.
– Ты провожа-а-ала и обеща-а-а-ла синий платочек сберечь…
Наверное, пока она пела, он вышел. Им хлопали, хлопали, многие встали. Опять, значит, спрыгнул с площадки трамвая. Беги! Мне тебя не догнать, я устала. А помнишь, как ты целовал мои груди и все повторял, что я слаще, чем дыня? Ты тоже был сладок. И сладок, и темен, весь в шелковой шерсти, как зверь; а уж запах!