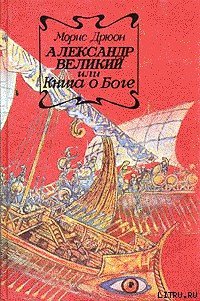Сладострастие бытия - Дрюон Морис (читать книги .TXT, .FB2) 📗
В комнату на цыпочках вошли не замеченные графиней Гарани и Кармела. При свете прикроватной лампы они увидели, что из-под мокрого носового платка на виски графини сбежали две крупные слезинки, и поразились, увидев на ее лице те же самые признаки смерти, которые она описывала. Гарани привела в изумление необычная гипертрофия памяти, поскольку Санциани, казалось, зачитывала наизусть, черпая из памяти, свое давно написанное письмо.
Кармела подумала: «А я-то думала, что когда она помолодеет в воспоминаниях, то станет счастливой! Но почему она так убивается по вещам, которые имели место столько лет назад!»
А вслух произнесла:
– Вы не хотите прерваться, синьора?
– Нет, моя маленькая Жозе, нет,– ответила Санциани из-под повязки.– Так надо. Мне от этого даже легче.
И снова принялась диктовать:
– «Моя милая Жозе, которой я диктую это письмо, в течение всего этого времени была образцом преданности и помогла мне вынести эту муку распятия. Мне пришлось пережить все. Из Нимегена четыре дня назад приехали его жена и обе дочери. И эти три холодные глыбы, затянутые в корсеты, словно тушки бычков, напустив на себя приличествующий обстоятельствам вид и выдавив несоленую слезу, решили начать борьбу за свои права и воспользоваться смертью, для того чтобы вернуть себе то положение, в котором им было отказано жизнью. Когда Шарль узнал о том, что они приехали, он понял, что был обречен. Я бы с удовольствием прогнала их прочь. Во взгляде Шарля я увидела, что он просит у меня прощения за все, что мне пришлось вынести, самую отчаянную мольбу. Эти три женщины относились ко мне как к постороннему лицу, самозванке, а одна из дочерей не постеснялась даже сказать мне: “Все, что здесь находится, принадлежит нам”. Еще не закрылись его глаза, а они уже наложили лапы на золотые коробки. С ними здесь появилась мерзость. Какое счастье, когда накануне своей кончины люди могут испытывать другое чувство, нежели ужас перед смертью в своей плоти! И именно они торжествуют, они силой овладевают вами и пользуются моментом, чтобы вас обобрать. Естественно, аренду “Ка Леони” прервут. С того самого момента, как Шарль заболел, я все переделала в доме, не скупясь на расходы и снимая деньги со своего счета, а не с его. Это казалось мне столь естественным. И в итоге я осталась без гроша за душой. Ты часто говорила мне, моя дорогая, что я могу считать твои деньги своими. Возможно, мне придется так и поступить, до тех пор пока я не приведу в порядок свои дела. Особенно мне хотелось бы пожить у тебя несколько дней. Ты увидишь, что в Париж приедет самая несчастная из вдов – та, что не имеет права носить траур. Целую тебя, моя самая давняя и единственная подруга».
Она замолчала.
– Это все? – спросила стенографистка.
– Господину Вильнеру я попробую написать сама,– слабым голосом ответила Санциани, протягивая руку за бумагой и ручкой.
Она написала: «Мой Эдуардо», а потом усталым жестом вернула бумагу стенографистке со словами:
– Нет, не могу, все прыгает перед глазами. Моя милая Жозе, я еще попрошу вас... Я не смогу уснуть, не освободившись от всего того, что накопилось вот здесь и постоянно вращается... «Мой Эдуардо... не удивляйся тому, что это письмо написано чужой рукой. Пишущий его человек в состоянии выслушать все мои мысли, даже те, о которых я могу рассказать только тебе одному, если ты все еще достаточно близок мне, чтобы суметь меня понять. У меня уже нет ни нервов, ни сил. Ничего у меня больше нет. За всю свою жизнь я никогда не чувствовала себя так ужасно. Даже смерть моего ребенка, после которой мне хотелось умереть, кажется мне теперь меньшей потерей. Я, видно, была в то время слишком юной, чтобы найти время подумать о смерти. А в этот раз... Сорок два дня я жила рядом, лицом к лицу с обезображивающей смертью. Это бесконечная мука. Мука видеть, как час за часом тело человека становится трупом, мука слышать, как человек, которому нет еще пятидесяти, строит планы на будущее, и поддерживать в нем иллюзию жизни, когда знаешь, что планы эти строятся напрасно. Мука, когда нельзя разрыдаться, слушая, как он говорит о лете, а ты знаешь, что лета ему больше не видать. Мука, когда он обещает поехать с тобой в путешествие, подарить тебе какое-то украшение, а ты знаешь, что стены комнаты – его последний горизонт и что скоро он уже не будет нигде ставить свою подпись. Тысячу раз я задавала себе вопрос, не совершаю ли я кражу, не говоря ему, что он обречен? Имею ли я право таить от человека его кончину? И все же решила, что пойду на обман до конца, хотя мне постоянно хотелось крикнуть ему: “Посмотри на дождь, ты его больше никогда не увидишь, это, возможно, последний дождь в твоей жизни. Посмотри на лицо твоего слуги, возрадуйся тому, что видишь его руки, что видишь мои руки – ведь это все скоро скроется во тьме!” Я вместо него страдала из-за всего того, чего у него в жизни еще не было и уже не будет. За каждое утро, за каждую ночь, которые он сможет запомнить как последние. Впервые в жизни в душу мою проникло необъяснимое милосердие, а ты ведь знаешь, что я для этого чувства не создана. Ведь милосердие – это когда страдаешь вместо другого, не так ли? О, как ты нужен мне, чтобы я смогла выговориться! Ведь все то время, пока длилась его агония, я жила в постоянном возмущении; я ненавидела Шарли, ненавидела что-то, что было выше его самого, за эти муки и пытки. Почему мы должны страдать от смерти других, коль и нам самим предстоит умереть?»
Она смолкла, переводя дыхание, и сняла с глаз носовой платок. Слез в глазах больше не было. Спустя несколько секунд она продолжала диктовать:
– «Ты ведь сам, Эдуардо, всегда говорил: “Мы являемся жертвами тех чувств, которые испытывают к нам другие”. Если честно, меня ничто не обязывало. Никто ничем никому не обязан, кроме самого себя. Может статься, что я любила Шарли странной любовью... которую мы, влюбчивые женщины, любовью называть не привыкли. Он, безусловно, любил меня больше, чем кого бы то ни было... С ним я прожила шесть лет сказочно красивой и легкой жизни. Он дал мне все и все позволял. Он знал, что с ним я удовольствия не получаю, и постоянно старался добиться у меня прощения за это. Он терпел мои капризы, мои вспышки, моих любовников. Он принял и тебя, прекрасно зная о том, что я хотела добиться от тебя абсолютного чувства, которое он сам питал ко мне. Он сказал мне: “Вы в конце концов все-таки полюбите меня”. Возможно, он добился того, чего хотел, как добивался успеха и во всех других своих начинаниях. До сегодняшнего дня живые и умершие делились для меня на две совершенно различные группы, на два отдельных мира. Теперь же граница стерлась, все смешалось. Часть меня самой, часть моего тела, моей жизни находятся по ту сторону. Отныне и навсегда часть меня занимается любовью с умершими. И я не перестаю повторять себе: “Шарли – первый умерший из моих любовников”. Мне представляется ужасной несправедливостью то, что до сих пор жив мой муж Санциани. Но все становится непонятным, глупым и бессмысленным, едва смерть пройдет рядом с нами. Лица, вещи, даже пейзажи кажутся всего лишь тонкой оболочкой, прикрывающей бездонную черную тайну. Человек делает шаг, оболочка лопается, и все кончено. Эдуардо, один лишь ты мог бы все объяснить мне, будь ты рядом, смог бы помочь мне привести в некоторый порядок мысли и вернуть реальность некоторым событиям. Успокойся. Я не зову тебя сюда. Я знаю, что приехать ты не сможешь. Но вот я вполне могу перебраться в Париж».– Она тяжело вздохнула и продолжила: – «Только думами о тебе мне удается прогнать прочь кошмары, только воспоминаниями о твоем лице. Ты – это жизнь, это сила. Мой Эдуардо, знай, милый, что я, несомненно, произнесу твое имя, когда придет мой черед закрыть глаза, чтобы никогда больше не увидеть мир, когда придет мой черед умереть...»
Она дважды повторила: «Мой черед умереть», очень тихо и очень медленно. А затем вдруг погрузилась в глубокий сон. Дыхание ее стало медленным и свободным.
Стенографистка вопрошающе посмотрела на Гарани. Тот сделал ей знак, что она может идти.