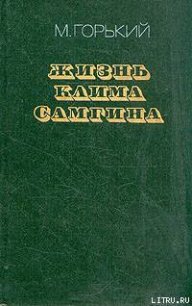Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая - Горький Максим (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
Клим не спрашивал, зачем он делает это, он вообще предпочитал наблюдать, а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Варавки:
«Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди».
Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора, озаглавленной «Триумфы женщин» Он так пламенно и красноречиво расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенькую книжку, внимательно прочитал но не нашел в ней ничего достойного восхищения Автор скучно рассказывал о любви Овидия и Коринны, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Бокаччио, Фиаметты; книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов. Клим долго и подозрительно размышлял, что же во всем этом увлекало товарища? И, не открыв ничего, он спросил Макарова.
– Ты не понял? – удивился тот и, открыв книгу прочитал одну из первых фраз предисловия автора:
– «Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной». Вот – правда. Высота культуры определяется отношением к женщине, – понимаешь?
Клим утвердительно кивнул головой, а потом, взглянув в резкое лицо Макарова, в его красивые, дерзкие глаза, тотчас сообразил, что «Триумфы женщин» нужны Макарову ради цинических вольностей Овидия и Бокаччио, а не ради Данта и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтоб настроить Лидию на определенный лад.
«Как все просто, в сущности», – подумал он, глядя исподлобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах, турнирах, дуэлях.
Когда Клим вышел в столовую, он увидал мать, она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек, в грязных и длинных, до колен, сапогах, стоял он закинув голову, открыв рот, и сыпал на язык, высунутый, выгнутый лодочкой, белый порошок из бумажки.
– Это – дядя Яков, – торопливо сказала мать. – Пожалуйста, открой окно!
Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее: Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной, костлявой рукой, спросил глухо:
– Это – второй? Клим? А Дмитрий? Ага. Студент? Естественник, конечно?
– Говори громче, я глохну от хины, – предупредил Яков Самгин Клима, сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг.
– Значит – явочной квартиры – нет? И кружков – нет? Странно. Что же теперь делают?
Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ее ответа, Самгин сказал Климу:
– Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил двадцать лет в Ташкенте и в Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да. Меня, в твои года, называли «i'homme qui rit» 1.
Клим заметил, что дядя произнес: «Льём».
– Канавы копал. Арыки. Там, брат, лихорадка. Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку.
– Гм, разбогател Иван. Как это он? Торгует?
И, еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима:
– Точно буфет на вокзале.
Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди, он показывал сероватую рубаху грубого холста; на сморщенной шее, под острым кадыком, красный, шелковый платок свернулся в жгут, платок был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными, кожаными ушами, – все это делало его похожим на старого солдата и на расстриженного монаха. Но зубы его блестели бело и молодо, и взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим, в столовой мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаминатора, мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновато.
– Ну, что же, какие же у вас в гимназии кружки? – слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как Ржиге, отвечал:
– Толстовцы. Затем – экономисты... немного.
– Расскажи! – приказал дядя. – Толстовцы – секта? Я – слышал: устраивают колонии в деревнях. Он качнул головою.
– Это – было. Мы это делали. Я ведь сектантов знаю, был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, Степняк писал – Кравчинский – знаешь? Гусев – это я и есть.
Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но все же о толстовцах он стал допытываться настойчиво:
– Ну, что ж они делают? Ну – колонии, а – потом?
Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна; хотелось спросить: почему не подают завтрак? Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он, он же так занят науками, что...
– Нам науки не мешали, – укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе.
– Катин? Не знаю.
Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции, он улыбнулся:
– Ага, значит – из честных. В мое время честно писали Омулевский, Нефедов, Бажин, Станюкович, Засодимский, Левитов был, это болтун. Слепцов – со всячинкой... Успенский тоже. Их было двое, Успенских, один – побойчее, другой – так себе. С усмешечкой.
Он задумался и вдруг спросил мать:
– Забыл я: Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно? Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал? Гм... А Иван – в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только лечится? Здоровый был. Но – в принципах не крепок. Это все знали.
Говорил он громко, точно глухой, его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились все громче, казалось, что еще несколько минут – и она начнет кричать.
– Тебе сколько – тридцать пять, семь? Моложава, – говорил Яков Самгин и, вдруг замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу:
– Ну-ко, проведи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили...
По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.
– Дом – Ивана, собственный?
– Дедушки. Но его купил Варавка...
– Кто?
Клим не знал, как ответить, тогда дядя, взглянув в лицо ему, ответил сам:
– Понимаю – материн сожитель. Что же ты сконфузился? Это – дело обычное. Женщины любят это – пышность и все такое. Какой ты, брат, щеголь, – внезапно закончил он.
Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно, точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил:
– Я вас из окна увидал и сразу почувствовал: это – он! Мне Сараханов писал из Саратова...
Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное, сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе.
– Ну, ну, – говорил он, усаживаясь на ветхий диван. – Вот как. Да. В Саратове кое-кто есть. В Самаре какие-то... не понимаю. Симбирск – как нежилая изба.
Он перечислил еще несколько приволжских городов и наконец спросил:
– Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает, – предупредил он и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей; Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные уши должны трещать от прикосновения к ним.
Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял:
1
«Человек, который смеется» (франц.). – Ред.