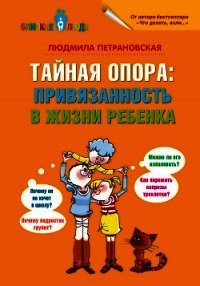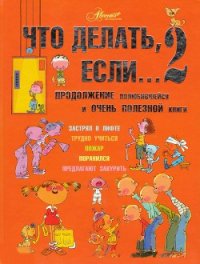Если с ребенком трудно - Петрановская Людмила (лучшие книги читать онлайн TXT, FB2) 📗
Под этим верхним, «разумным», мозгом есть мозг внутренний, лимбическая система, иногда его называют еще эмоциональным мозгом. Он у нас примерно такой же, как у других млекопитающих, не знающих ни таблицы умножения, ни спряжения глаголов. Но знающих, что они хотят жить, размножаться, не испытывать боли, не быть съеденными хищником, защищать своих детенышей. Этот мозг отвечает за чувства, за отношения, там рождаются и хранятся страх, радость, тоска, любовь, злость, блаженство – много всего. Именно этот, внутренний, мозг заставляет мать счастливо таять, держа на руках ребенка, а ребенка – улыбаться матери, именно он в случае опасности «замедляет» для нас время и придает сил, именно благодаря ему мы наслаждаемся объятиями и льем слезы при встрече и разлуке. Внутренний мозг отвечает за наши витальные, то есть жизненно важные потребности – безопасность, базовые нужды (голод, жажда и др.), влечение к противоположному полу, привязанность. Он же регулирует иммунитет, артериальное давление, выбросы гормонов и вообще отвечает за связь психики с телом.

Отношения между внешним и внутренним мозгом сложные. С одной стороны, они тесно связаны. В целом, если все более-менее благополучно, два мозга живут в ладу, «слышат» друг друга и действуют согласованно. Наши мысли влияют на чувства: мы можем впасть в мрачное настроение, услышав невеселый сюжет в теленовостях, или обрадоваться, вспомнив, что скоро Новый год. И наоборот: когда на душе тяжело, все вокруг кажется подтверждением тезиса «жизнь ужасна, все вокруг идиоты», а когда ты влюблен и счастлив, идиотом кажется какой-нибудь мрачный Шопенгауэр. Но возможности внешнего мозга влиять на внутренний ограничены. Если нам страшно, даже в ситуации, когда объективно бояться особо нечего, например ночью на кладбище, мы не можем заставить себя перестать бояться. Не можем просто спокойно проанализировать ситуацию, решить, что ничего опасного нет, и успокоиться. Так не получается.
Если лимбическая система расценила какую-то ситуацию как тревожную, угрожающую жизни или жизненно важным отношениям, в ней включается сигнал тревоги, эмоциональная «сирена». По нервам разносится сигнал: «Боевая тревога! Свистать всех наверх! Срочно предпринять меры по ликвидации угрозы!» Подключается тело: учащается пульс, в кровь выбрасывается адреналин, мы замираем в ужасе – чтоб не заметили, или громко кричим – чтобы спасли, или быстро убегаем – чтобы не догнали, или бросаемся в драку – чтобы победить опасность.
Причем объективность угрозы тут – дело второстепенное. Если ребенок боится Бабы-яги под кроватью, не помогает ему просто объяснить, что там никого нет, да и посветить фонариком тоже не помогает. Для его внешнего мозга, конечно, все ясно: под кроватью пусто. А его эмоциональному мозгу страшно, и все тут. А не страшно, только когда мама рядом.
Когда ребенок цепляется за вас со слезами, провожая на работу, не помогает ему просто сказать, что «мама скоро придет», что «все взрослые должны работать» и прочие умные вещи. Мама уходит прямо сейчас, и это ужасно, потому что он хочет быть с мамой всегда. А помогает только посидеть с ним в обнимку, не дергаясь и не глядя на часы, и дать ему пока поносить свой халат – для лимбического мозга халат с запахом мамы – это, конечно, не мама, но как бы ее часть, и жить можно.
По этой же причине ваш ребенок уверен, что его папа самый сильный, и неважно, что папа – «ботаник» и сроду не поднимал штангу и не дрался. Ему, ребенку, его лимбической системе, рядом именно со своим папой защищённо и нестрашно. Просто потому что это его папа, его собственный. А с другим, чужим папой, не будет так же защищённо, будь тот хоть чемпион мира по всем видам единоборств сразу. Так кто самый сильный?
Мозг, в котором хранится привязанность, идет от чувств, а не от фактов. Собственно, и открыли привязанность как явление именно благодаря этому обстоятельству.
Во время Второй мировой войны Лондон сильно бомбили и жизнь у детей в городе была невеселая – целыми днями иногда приходилось сидеть в сырых полутемных бомбоубежищах, ни погулять, ни воздухом подышать. Да и еда была очень скудной, не для растущих организмов. И было принято решение детей вывезти в деревню. Там безопасно, травка, воздух, парное молоко, местные жители помогут присмотреть за детьми, а родители в Лондоне пусть спокойно работают для фронта.
Так и сделали, и дети приехали в прекрасные английские деревни, к зеленым лугам, хорошей еде и заботам добрых местных домохозяек, готовых бедняжек приласкать, обогреть и развлечь. Детей сопровождали педагоги, психологи, врачи. Их хорошо устроили, у них была одежда и игрушки. Вот только происходить начало странное. Дети, особенно маленькие, которые в Лондоне были хоть и бледными и худенькими, но веселыми и вполне здоровыми, здесь чувствовали себя явно плохо. Они не хотели играть, плохо ели, они болели всем, чем можно, некоторые начали писаться, другие – перестали разговаривать. Они тосковали по родителям, им было плохо и страшно не там, в Лондоне, под бомбами и впроголодь, но рядом с мамой, а здесь, в чудесной пасторали, но без мамы.
Именно тогда психологи, среди которых был Джон Боулби, обратили внимание на это важнейшее свойство привязанности – она иррациональна. Ребенку спокойно от присутствия своего взрослого самого по себе, даже если вокруг падают бомбы. И наоборот: он не может быть спокоен и счастлив, а значит, не может хорошо расти и развиваться, если своего взрослого рядом нет. Или когда отношения с ним под угрозой.
«Я ему говорю, говорю…»
Понимая реакцию ребенка на угрозу его связи со «своим» взрослым, а также отношения между внешним, разумным, и внутренним, эмоциональным, мозгом, можно, например, понять, почему не работают объяснения, нотации и вообще «назидательные беседы».
Почти на любой первой встрече психолога с родителем половина времени теряется впустую. На что? На подробный пересказ родителем всех тех правильных слов, умных мыслей и неоспоримых доводов, которые он приводит своему ребенку.
«Я ему говорю: это же тебе нужна учеба, не мне. Ты же вырастешь – захочешь нормальную работу, зарплату. А знаний нет. Будешь локти кусать, а время упущено. Все “Вконтакте” просидел. Сам же потом пожалеешь».
«Я ей говорю: вещи же денег стоят. Не просто так с неба падают. Это мой труд, труд людей, которые их делали. Как же можно так с ними обращаться? Испачкала – ну, постирай. Зачем под кровать запинывать? Выходишь из школы: проверь лишний раз, все ли взяла – шарф, шапку, сменку. Не напасешься же. Я же не ворую, каждую неделю все новое покупать».
«Я ему говорю всегда: умей признавать вину и нести ответственность. Как мужчина, а не как трус. Набезобразничал – отвечай. Зачем юлить, врать? Самому не стыдно? Напортачить мог, а отвечать – тебя нету?»
«Я им говорю: вы же сами потом не найдете ничего. Вот захотите поиграть, а все вперемешку, раскидано-разбросано, где искать детали – непонятно. Ну, разложите аккуратно, есть же коробки, контейнеры, чтобы захотели, время есть – раз и достать. Самим же будет лучше, и настроение другое, когда порядок. Вот у меня инструменты в гараже в порядке лежат, иначе как работать?»
Человек, говорящий «правильный» текст, всегда немножко похож на тетерева на току: токует себе, ничего и никого вокруг не слышит. Сам себя в транс вводит, сам себе кивает. Кстати, если не прерывать, так и весь час консультации может пройти. И только за пять минут до конца человек спохватится: а что делать-то? Поэтому я всегда прерываю. «Уверена, – говорю, – что вы все говорили правильно и замечательно, давайте не будем время терять на пересказ». Потому что и правда уверена. Ну, много ли родителей, которые бы детям говорили: «Ври, детка, не стесняйся», или «Школу прогуливай, а ну ее вообще», или «Кидай вещи где попало – не жалко»? Бывают, наверное, но не часто встретишь.