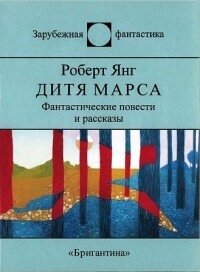Измышление одиночества - Остер Пол (читать книги без регистрации txt, fb2) 📗
Если выбирать худший миг этих дней, вот он: когда я под проливным дождем шел по лужайке перед домом с охапкой отцовых галстуков – закинуть их в фургончик «Миссии доброй воли». Галстуков было не меньше сотни, многие я помнил с детства: узоры, цвета, очертания, отпечатавшиеся в самом раннем моем сознании так же ясно, как само отцово лицо. Выбрасывать их, как просто мусор, мне было невыносимо, и вот в тот самый миг, когда я швырнул их в фургон, слезы подступили как никогда близко. Даже не гроб, опускаемый в землю, – воплощение похорон, казалось мне, а – выбрасывать вот эти галстуки. Я наконец понял, что мой отец умер.
Вчера поиграть с Дэниэлом пришел кто-то из соседских детишек. Девочка лет трех с половиной, она недавно выяснила, что большие тоже когда-то были детьми и даже у ее мамы с папой есть родители. В какой-то момент она сняла телефонную трубку и пустилась в беседу понарошку, затем повернулась ко мне и сказала:
– Пол, это ваш папа. Он хочет с вами поговорить. – Ужас. Я подумал: на том конце провода призрак, и он и впрямь желает со мной побеседовать. Голос вернулся ко мне лишь немного погодя.
– Нет, – наконец ляпнул я. – Не может такого быть. Мой папа сегодня звонить не будет. Его тут нет.
Я подождал, пока она положит трубку, и ушел из комнаты.
В чулане его спальни я обнаружил несколько сотен фотографий – разложенных по манильским конвертам, прицепленных к черным страницам покоробленных альбомов, разбросанных по выдвижным ящикам просто так. Судя по такому способу хранения, он никогда их не пересматривал, даже забыл, что они у него есть. Один очень большой альбом, переплетенный в дорогую кожу, с золотым тиснением на обложке: «Это наша жизнь: Остеры», – внутри был совершенно пуст. Кто-то, вероятно, мать, некогда потрудился заказать этот альбом, но никто ни разу не обеспокоился его заполнить.
Вернувшись домой, я принялся изучать эти снимки с зачарованностью, граничившей с манией. Для меня они были неотразимы, драгоценны, сродни святым мощам. Казалось, они способны рассказать мне такое, чего я раньше не знал, открыть некую доселе скрытую истину, и я вглядывался в каждый снимок сосредоточенно, впитывая мельчайшие детали, каждую самую незначительную тень, пока все эти изображения не стали частью меня. Я не хотел, чтобы что-то потерялось.
Смерть отбирает у человека его тело. В жизни человек и его тело – синонимы; в смерти есть человек и есть его тело. Мы говорим: «Вот тело такого-то», – как будто тело это, некогда бывшее самим человеком, а не тем, что его представляет или принадлежит ему, не сам этот некто, вдруг перестало иметь какое-либо значение. Кто-то заходит в комнату, вы пожимаете друг другу руки, и у вас не возникает ощущения, что вы пожимаете руку его руке или здороваетесь с его телом – вы здороваетесь с ним самим. Смерть это меняет. Вот тело такого-то, а не сам такой-то. Совершенно другой синтаксис. Теперь мы говорим о двух вещах, а не об одной, подразумевая, что человек существует себе и дальше, но лишь как идея, гроздь образов и воспоминаний в умах других людей. Что же до тела, оно – всего-навсего плоть и кости, кучка чистой материи.
Находка этих фотографий была важна для меня, потому что они, казалось, подтверждают физическое присутствие моего отца в мире, сообщают мне иллюзию того, что он по-прежнему есть. Оттого, что многих снимков я никогда раньше не видел, особенно тех, где он в молодости, у меня возникло странное ощущение, будто я впервые с ним познакомился, и какая-то часть его только начинает существовать. Я потерял отца. Но в то же время и нашел его. Коль скоро у меня эти снимки перед глазами, покуда я продолжаю в них всматриваться со всем своим вниманием, он как будто бы еще жив, даже после смерти. А если не жив, то хотя бы не мертв. Или же, скорее, как-то подвешен, замкнут во вселенной, не имеющей со смертью ничего общего, куда смерть никогда не может войти.
По большинству эти фотографии не сообщили мне ничего нового, но помогли заполнить пробелы, подтвердить впечатления, предложили такие доказательства, каких раньше не было. Серия моментальных снимков его холостяком, к примеру; вероятно, их щелкали не один год, – точный отчет о некоторых сторонах его личности, не выступавших на поверхность в годы его брака, та его сторона, которую я начал различать лишь после их развода: мой отец – проказник, повеса, веселый разгильдяй. Снимок за снимком – он стоит с женщинами, обычно двумя или тремя, все в комических позах, могут обнимать друг друга, или же две какие-нибудь устроились у него на коленях, а то и театрально целуются лишь ради того, кто с фотоаппаратом. Фоном: гора, теннисный корт, быть может – бассейн или бревенчатая хижина. Эти снимки привозились с вылазок на курорты в Кэтскиллы на выходных в обществе неженатых друзей: поиграть в теннис, развлечься с девушками. Так он жил до тридцати четырех.
Такая жизнь его устраивала, и мне понятно, почему он к ней вернулся, после того как распался его брак. Человеку, считающему жизнь сносной, только если не углубляться в себя, естественно довольствоваться тем, что другим он показывает лишь эту поверхность. Требований тут немного, никакой преданности не нужно. С женитьбой же, напротив, дверь закрывается. Существование ограничивается тем узким пространством, в котором постоянно вынужден обнажать себя – а потому постоянно приходится в себя заглядывать, присматриваться к собственным глубинам. Когда дверь открыта, никаких хлопот: всегда можно улизнуть. Можно избегать ненужных стычек – и с собой, и с кем-то другим, – просто уходя.
Способность моего отца уклоняться была почти безгранична. Оттого, что поприще другого для него было недостоверно, его вылазки на это поприще совершались той его частью себя, которую он считал столь же недостоверной, другим своим «я», которое он, как актера, выдрессировал представлять себя в пустой комедии окружающего мира. Эта подменная самость по сути лишь дразнила, была непоседливым ребенком, вруном и балагуром. Она ничего не могла воспринимать всерьез.
А раз ничего не имело значения, он позволял себе свободу делать, что захочется (обманом проникал в теннисные клубы, представлялся ресторанным критиком, чтоб накормили бесплатно), и шарм, который он расточал для свершения таких подвигов, как раз сами деянья эти обессмысливал. С женской суетностью он скрывал правду о своем возрасте, сочинял байки о своих сделках, о себе говорил лишь косвенно – в третьем лице, словно о своем знакомце («Есть у меня один друг, и у него такая вот незадача вышла; как, по-твоему, ему лучше поступить?..»). Если же его зажимало в угол так, что вот-вот – и придется разоблачиться, он выворачивался враньем. В итоге ложь получалась уже машинально, он лгал ради самой лжи. Главное – сказать как можно меньше. Если кто-то никогда не узнает о нем правды, ее нельзя будет потом обратить против него. Ложью он покупал себе защиту. Стало быть, когда он являлся людям, видели они отнюдь не его самого, а изобретенную им личность, существо искусственное, которым он мог управлять для того, чтобы управлять другими. Сам же он оставался невидимкой, кукловодом за нитками своего второго «я», в темноте и одиночестве где-то за шторкой.
Последние десять-двенадцать лет жизни у него была постоянная подруга – эта женщина появлялась с ним на людях, играла роль его официальной спутницы. Время от времени невнятно поговаривали о свадьбе (по ее настоянию), и все подразумевали, что она – единственная, с кем он имел дело. Однако после смерти начали объявляться и другие женщины. Эта его любила, та его боготворила, третья собиралась за него замуж. Главную подругу явление всех прочих женщин шокировало: мой отец о них ей ни полусловом не обмолвился. Каждой скармливал что-то свое, и каждая считала, что владеет им целиком и полностью. Как выяснилось, ни одна не знала о нем ничегошеньки. Ему удалось от них всех ускользнуть.