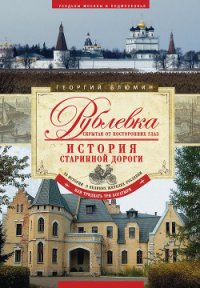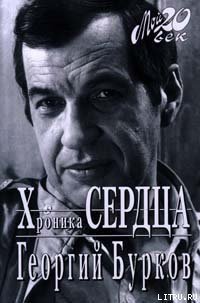Лермонтов и Москва. Над Москвой великой, златоглавою - Блюмин Георгий Зиновьевич (книги онлайн полностью txt) 📗
Не буду занимать вас описанием, что я перечувствовал по пути к этой – живой! – внучке. Это понятно каждому.
…Маленький деревянный домик внутри двора, несколько ступенек и дверь. Я постучал.
Открывает дверь женщина: немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице.
– Вам кого?
– Простите, – говорю, – можно видеть Наталью Сергеевну Маклакову?
– Да, это я. А что вам угодно?
– Здрасте, Наталья Сергеевна, – говорю я в сильном волнении. – Я узнал ваш адрес через адресный стол… Я занимаюсь Лермонтовым. И вот в связи с этим мне надо бы с вами поговорить…
– Голубчик! – с сожалением перебивает она. – Вы напрасно искали меня. Я ничем не смогу быть вам полезной. Ведь все стихи, которые Лермонтов посвящал моей бабушке, Наталии Федоровне, все его письма, которые со стихами вместе хранились в ее шкатулке, давно уже сожжены. Их уничтожил еще мой дед, Николай Михайлович Обресков, из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось.
– Наталья Сергеевна! – вскричал я. – Вы, наверно, даже не представляете себе, что вы сказали!
– А что я сказала? – встревоженно спросила Маклакова. – Я ничего не сказала и ничего не скажу интересного. Мне, мой милый, известны только те стихи, которые напечатаны во всех изданиях Лермонтова и которые вы знаете, конечно, не хуже меня.
прочла Маклакова слегка дрожащим голосом. – Со слов мамы, – продолжала она, – я знаю, что эти стихи написаны для бабушки, Натальи Федоровны. Вот и все, что я знаю.
– Наталья Сергеевна, – спросил я, удивляясь все более, – почему вы никогда никому не рассказали о знакомстве вашей бабушки с Лермонтовым, о его любви к ней? Почему имя ее никогда не появлялось в печати? Для чего вы хранили его в тайне?
– А для чего нам было сообщать в печать имя бабушки? – спросила Наталья Сергеевна. – Чем нам гордиться? Тем, что бабушка… предпочла дедушку?
Тут я уже просочился через порог. Маклакова пригласила меня в комнату, посадила на потертый диван, и я стал задавать ей вопросы, какие только способно было породить мое воспаленное от радости воображение.

М.Ю. Лермонтовв штатском сюртуке.
Художник П.Е. Заболотский
Она знала действительно очень мало. Но и это «мало» было для меня очень «много». Я услыхал от нее, что в «Странном человеке» Лермонтов рассказал о своих отношениях с Ивановой. Что у Ивановой хранился экземпляр этой пьесы, аккуратно переписанный самим Лермонтовым и с посвящением в стихах. Что у Натальи Федоровны была сестра, Дарья Федоровна, которая вышла замуж за офицера Островского. Что Дарья Федоровна прожила всю жизнь в Курске, а дочери ее жили в Курске до самой революции. На мои вопросы о дедушке своем, Николае Михайловиче Обрескове, Маклакова ничего не могла ответить, никак не могла объяснить, за что он разжалован.
– Я что-то ничего не слыхала об этом, – говорила она. – Знаю только, что в старости дедушка был предводителем дворянства в каком-то уезде Новгородской губернии. Там у него было имение.
– А я уж подумывал, не декабрист ли он, – сознался я Наталье Сергеевне.
– Милый мой, – ахнула Маклакова, – как хорошо было бы, если б он оказался декабристом!
Наконец я ушел от нее. Но дорогой вспомнил, что забыл задать ей еще какие-то вопросы, повернул назад. И с тех пор стал ходить к Маклаковой, как на службу.
Сундук с белорусской дороги
Маклакова предложила мне, что обойдет всех своих московских родственников и сама расспросит их, не помнят ли они чего о Наталье Федоровне и о Дарье Федоровне, об их отце, матери, тетках, дядьях и знакомых. Чтоб я только написал ей вопросы, какие она должна задавать. Все это было, по ее словам, гораздо проще узнать ей, чем мне. Я обрадовался и притащил ей на дом целую картотеку вопросов. Захожу к ней вскоре. И, сообщив мне целый ворох имен дальних родственников Натальи Федоровны по линии нисходящей и восходящей, Маклакова говорит мне:
– У меня к вам просьба. Помогите мне достать машину.
Я удивился:
– Какую машину?
– Автомобиль, – говорит Маклакова. – И такой, чтоб на него можно было поставить сундук покойной сестры Христины. Я ведь вам говорила, что последние годы Христина Сергеевна жила по Белорусской дороге, недалеко от Перхушкова. Вещи, которые после нее остались, мы отдали там на хранение соседям. И, знаете, уже столько прошло с тех пор времени, что я опасаюсь, цел ли сундук. Мне хотелось бы его сюда привезти, да он такой громоздкий, что не принимают даже в багаж. А последнее время я все стараюсь припомнить, нет ли там чего-нибудь для вас интересного…
Тут я живо достал машину. Маклакова послала кого-то за сундуком. Я же заблаговременно явился к ней на Зубовский и принялся расхаживать мимо ворот: войти в дом – слишком рано, стесняюсь, а в то же время боюсь опоздать к прибытию сундука.

Наталья Федоровна Иванова.
Рисунок В. Биннемана
Под вечер машина пришла. Отвалили заднюю стенку. Стащили огромный, с коваными наугольниками сундук и поволокли его в дом. Я хотел, чтоб наибольшая тяжесть легла непременно на меня – ревновал к сундуку, говорил: «Не надо! Я сам!..» Наконец водворили его в комнате. Маклакова принялась за разборку. И тут пошли из него такие вещи, каких я вовсе никогда и не видывал. Прежде всего, пошли какие-то флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Перламутровые альбомчики, старые веера и лайковые перчатки, перья и булавки для шляп, старые пуговицы, каких теперь вовсе не увидишь, металлический чайник, утюг, кривая керосинка, кофейная мельница, колун… Маклакова над каждой вещичкой умиляется. А для меня – ничего!..
И вот, когда уже почти пуст сундук, Маклакова вынимает со дна старинную, светло-коричневой кожи рамку и, улыбаясь, что-то рассматривает.
– Вот видите, и для вас под конец нашлось…
А мне виден только оборот – и, гляжу, на обороте рамки старинным почерком надпись: «Наталья Феодоровна Обрескова, рожденная Иванова».
Взял я эту рамку в руки, повернул ее и увидел, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил и из-за которой я… так страдал.
Нежный, чистый овал. Удлиненные томные глаза. Пухлые губы, в уголках которых словно спрятана любезная улыбка. Высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи… А выражение лица такое, как сказано в одном из лермонтовских стихотворений, ей посвященных:
А Маклакова протягивает другую такую же рамку:
– И дедушка нашелся! Помнилось мне, что портреты эти были парные: оба нарисованные карандашом и оба в одинаковых рамках…
Смотрю на Обрескова. Молодое лицо его довольно красиво, окружено кудрявыми бачками. Но выражение надменное и словно брезгливое: неприятное выражение.
Он в штатском: высокий воротник фрака, как носили в пушкинские времена; бархатный бант, цепочка с лорнетом и в петлице фрака – орден: крест на полосатой ленте. Очевидно, Георгиевский.
«Ну чего, – думаю, – проще: зайду в Ленинскую библиотеку, посмотрю список георгиевских кавалеров за все годы существования этого ордена и узнаю, когда и за что Обресков был награжден».
Еду в Ленинскую библиотеку… Удивительно! Николай Обресков Георгиевским крестом не награждался. Георгиевский крест был у его отца.