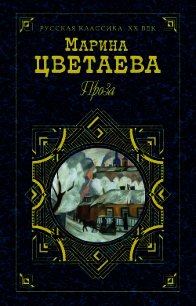За Россию - до конца - Марченко Анатолий Тимофеевич (книги онлайн без регистрации txt) 📗
Особенное возмущение Деникина вызвала исполненная ложного пафоса фраза Краснова: «Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами».
«Какой позор, до чего докатился атаман! — возмущался Деникин. — Ползает на коленях перед Вильгельмом! И в то же время без всякого стыда и совести втирает ему очки. А как предательски себя ведёт! Толкает Добровольческую армию на Царицын и тут же заверяет немцев, что не допустит на свою территорию враждебных Германии вооружённых сил! Чёрт с ним, пусть лижет задницу Вильгельму, если это доставляет ему удовольствие, но продавать немцам русские земли — это уже слишком».
Как хотелось Антону Ивановичу сказать Краснову прямо сейчас эти слова, но он сдерживал себя, понимая, что ещё не пришло время рвать с ним отношения и отталкивать от себя хотя бы часть донского казачества.
Что поделаешь, не всё подвластно человеку, особенно тогда, когда обстоятельства оказываются сильнее его!
21
Из записок поручика Бекасова:
Я вышел из штаба после встречи с Деникиным, испытывая крайне сложные и противоречивые чувства. Прежде всего, это была радость от сознания того, что мне сравнительно легко удалось достичь своей первоначальной цели. Я смог живым и невредимым пробраться на Кубань, без долгих проволочек попасть прямо к, Деникину и сразу же вызвать у него доверие к себе.
Вместе с тем эта радость вступала в противоречие с сознанием того, что мне предстоит выполнять постыдную роль: выдавая себя за сторонника Белого движения, делать всё, чтобы нанести этому движению хотя бы некоторый, а при удачном стечении обстоятельств и весьма существенный урон. А это означало, что я предаю и Антона Ивановича, как одного из главных организаторов и вдохновителей этого движения.
Но, как и прежде, я оправдывал свои будущие действия тем, что, помогая красным, я тем самым буду работать во спасение самого Деникина: он скорее поймёт, что дело белых безнадёжно, и предпочтёт бессмысленной борьбе эмиграцию за рубеж, способствуя тем самым окончанию междоусобной бойни в России.
Омрачали мою душу и личные переживания. Я всею силою души ненавидел Любу, будучи убеждённым в том, что она предала меня, предала дважды — и доставив меня сразу же в контрразведку, к полковнику Донцову, и там, в степи, с Лукой... И в то же время я ощущал дьявольское влечение к этой предательнице. Я пока не мог понять, какое чувство окажется сильнее — любовь или ненависть, какое из них победит. Самое страшное для человека — это состояние, когда борются в дикой схватке два совершенно непримиримых чувства и он не может решить, какое должно взять верх.
Полковник Донцов, вышедший вместе со мной, был оживлён и даже весел и старался изо всех сил произвести на меня самое благоприятное впечатление.
— Всё складывается как нельзя лучше, — говорил он, то и дело лукаво поглядывая на меня. — Вам, Дима, — он почему-то счёл возможным называть меня по имени, как называл меня Антон Иванович, хотя я бы воспринимал обращение «поручик» как наиболее подходящее, — я создам самые благоприятные условия, вы в этом скоро убедитесь. Жить будете в прекрасном доме, со всеми удобствами, хозяйка хоть и немного сварливая, зато как готовит обеды, каналья! Правда, неудобство нашей жизни состоит в том, что мы не задерживаемся в станицах более недели. Путешествуем, так сказать, по благодатной, чёрт бы её побрал, Кубани! Правда, путешествия эти дорого нам обходятся: у красных силёнок побольше, в каждой стычке несём потери.
— Война есть война, — философски заметил я. — Сколько ещё испытаний, сколько потерь впереди!
Он испытующе посмотрел на меня. Так обычно смотрят люди его профессии, у которых в крови сидит неугасающее ни на миг недоверие даже к тем, кому можно вполне доверять.
Тем временем мы приблизились к добротной казачьей хате, огороженной новым высоким плетнём. Солнечные блики вспыхивали в многочисленных цветных стёклах просторной веранды, обращённой на юг. За домом раскинулся большой фруктовый сад, а со стороны фасада был аккуратный палисадник с кустами смородины и цветами, среди которых я сразу же приметил мои любимые ирисы.
— Вот тут и разместитесь, — голосом доброго гостеприимного хозяина пророкотал Донцов. — И удобно, и до штаба недалеко.
— Очень признателен вам за заботу, господин полковник, — произнёс я. — Вы извините меня за то, что я доставил вам столько хлопот. Уверен, что вас ждут более важные дела, а я, с вашего позволения, устроюсь теперь вполне самостоятельно.
— Вы попали в самую точку, Дима, — обрадованно сказал Донцов, и я подумал, что одним из этих «важных» дел было, наверное, стремление полковника побыстрее отправиться на свидание с Любой, которую он обещал навестить вечером. — Вы уж, если что не так, — сразу мне сигнальчик. А то у нас знаете как бывает? Какой-нибудь, ангидрид твою... — Он осёкся, проглотив остаток этой фразы, — какой-нибудь олух, не разбираясь, что к чему, начнёт к вам придираться.
— Да уж постараюсь постоять за себя сам, в случае чего, — сказал я сухо: мне неприятна была такая плотная опека.
— Я в этом не сомневаюсь, Дима. — Он посмотрел на меня почти с любовью. — И всё же на мою помощь и поддержку вы можете рассчитывать в любой момент. Желаю приятного отдыха. — Донцов, откланявшись так, будто я был не поручик Бекасов, а сам генерал Деникин, отправился восвояси. Я не раз замечал привычку людей, подчинённых высокому начальству, изо всех сил угождать тем, кто пользуется благорасположением этого самого начальника. Так уж заведено было в жизни...
Я взошёл на широкое крыльцо, ожидая встречи с той рамой сварливой хозяйкой, о которой мне говорил Донцов, и вдруг, к своему несказанному удивлению, увидел вышедшую мне навстречу... Любу! Красивое лицо её смяло, будто встреча со мной была для неё лучшим подарком.
— Здравствуй, Дима! — В голосе её слышалась радость. — Теперь я уж точно знаю, что родилась под счастливой звездой! Ты снова со мной!
От этих слов я даже потерял дар речи. В голове у меня теснились, обгоняя друг друга, десятки вопросов к ней, хотя главным был один-единственный: почему она так поступает, почему, говоря о любви, предаёт меня на каждом шагу?!
Однако Люба не дала мне задать этот, самый главный для меня, вопрос. Едва я попытался открыть рот, как она, крепко обняв, закрыла вше его горячим поцелуем. И за этот поцелуй я ещё сильнее возненавидел её!
У меня перехватило дыхание, я оторопело смотрел на неё, пытаясь понять: нормальный ли она человек или же помешавшаяся на плотских желаниях психопатка?
— Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, Дима, — оторвавшись от моих губ, спокойно, даже отрешённо сказала она. — И знаю, о чём хочешь меня спросить. Сказать?
— Ты не женщина, ты — сам дьявол! — наконец смог выговорить я. — Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать! Я проклял день и час, когда встретил тебя!
— Нет! — Любин голос был полон решимости. — Нас свела война, и только война сможет нас разлучить. — В её словах было что-то пророческое. — Ты любишь, хочешь меня, ты всё равно не сможешь жить без меня.
Я молчал. Да и что я мог сказать?
— Пойдём, я покажу тебе твою комнату, — уже по-хозяйски, обыденно сказала Люба, и, странное дело, я пошёл за ней с прямо-таки собачьей преданностью.
Мы вошли в светёлку, где стояла широкая железная кровать с никелированными шарами на спинках. Кровать была накрыта одеялом, представлявшим собой мозаику сшитых разноцветных лоскутов. В головах лежали огромные, пышно взбитые подушки. Я так устал и физически и морально, что готов был тут же повалиться на эту манящую к себе кровать. Но Люба усадила меня за стол, уставленный едой. Я заметил и отварную фасоль с молоком и красным перцем — национальное блюдо осетин, любимое мной ещё в детстве; здесь же стояла тарелка с жареным сазаном, нарезанным крупными кусками. Сазан тут же некстати вызвал у меня неприятное воспоминание об ухе, которой нас потчевал Лука. Мне вдруг расхотелось есть.