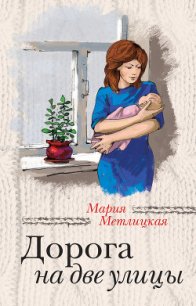Ошибка молодости (сборник) - Метлицкая Мария (книги читать бесплатно без регистрации полные txt) 📗
К любовнику своему – кличка Тошнот – она наведывалась раз в неделю. Больше бы не выдержала. Да и ему, старому хрычу, больше не надо было. В самый раз. Квартира – огромная, темная и захламленная – казалась Томе пещерой какого-то страшного и злобного тролля. Впрочем, нет, злобным тролль не был вовсе. По-крайней мере с ней, с Томой. И все же каким-то пятым чувством она понимала: не дай бог что, вот не дай бог! Схарчит Леопольд ее, сжует со всеми потрохами. И косточки не выплюнет. Слышала, как он по телефону разговаривает: тихонько, вкрадчиво, вежливо. А становится страшно. Так страшно, что холодный пот по спине.
И ей сказал, тоже ласково и шепотом:
– Ты люби меня, Тома! А если не можешь – храни верность. И языком не мели! Поняла, девочка? – И страшненько так засмеялся, скрипучим и старческим смехом.
Она, сглотнув слюну, кивнула:
– Да, поняла.
Он погладил ее по голове.
– Вот и умница, понятливая девочка! А уж я тебя не обижу! Я верных людей не обижаю! – И снова трескучий и сухой смешок. А у нее мурашки по телу.
Но зато жить стало легче. Денег давал он ей щедро, шубу и вправду купил. Песцовую, до пят. Колечки разные, цепочки. Адреса магазинов – обувь, тряпки, продукты. Директора открывали перед ней двери в свой кабинет, товароведы заносили дефицитный товар. Тома томно покуривала и пила кофе. Пальчиком тыкала – то и это. Таксист ждал у заднего входа. Торгаши шепотком передавали «пламенный привет Леопольду Стефановичу».
С работы Тома уволилась. К чему ей это? Тряпок море, надевать некуда. Холодильник забит. Только скука страшная, смертельная. Душит по вечерам, сердце в тряпку выкручивает. Все есть, а жить неохота. И еще… Так ребеночка хочется! Малюсенького, толстенького, с душистым затылочком!
Смотрит на спящего любовничка и смерти ему желает, потому что понимает: по добру он ее не отпустит. «Денежки вложены – ха-ха-ха! А свое я просто так не отдаю!»
В квартире пыль вековая – домработницу в дом пускать нельзя. А Томе убираться неохота. Вазы, картины, часы на стенах. Статуэтки бронзовые. Понятно – все старинное, ценное, все антиквариат. Рассказал как-то, со смешком своим страшненьким, как бабулек арбатских охаживал. Молочко и саечки с изюмом носил. И покупал у бабулек этих вазочки, часики, колечки, статуэточки. За копейки, понятное дело. Говорил: «Люблю я, Томусик, старину. История в этих цацках есть, дыхание. Судьба у каждой игрушки. Это тогда – копейки. А дальше – цены этому всему не будет! Ты уж мне поверь!»
Она верила. Как не поверить? Только думала: «А кому ты все это оставишь? Ни семьи, ни детей…» Сказал, что была сестра родная. Где теперь – не знает. И знать не хочет. И про «родственные узы» ничего не понимает.
Однажды паспорт его нашла. И удивилась – всего-то пятьдесят семь лет! А она думала, что он глубокий старик. Вот откуда прыть его ненасытная! До утра может мучить, чтоб ему… Хорошо, что раз в неделю.
Фотки своих родителей показал, расчувствовался. Мать – красавица. Просто звезда кино, настоящая польская панна. И папаша ничего – вальяжный, в шляпе, с сигарой. Известный адвокат.
– А я… – он всхлипнул. – Няня коляску не удержала, та с лестницы покатилась. Выпал младенец, покалечился. Ручка, ножка, позвоночник. Уродом стал.
Мамаша с папашей бились, денег не жалели. Но ни профессора не помогли, ни операции, ни санатории. Все детство пролежал куколкой спеленатой. От боли выл. А когда родители поняли, что все равно человека из него не сделать, дочку родили, сестрицу Ванду проклятую. И вся любовь, вся нежность на эту чертову куклу ушла. Про него словно забыли. Ну лежит там калека в комнате, книжки свои читает. Есть-пить давали, конечно.
Но на курорты – с дочуркой, в театры – опять с ней. Что с ним позориться, взгляды людские привлекать? Машину купили, «Победу». Как он мечтал на ней в путешествие отправиться! В Крым, на Черное море! А они укатили без него, с этой дурой кудрявой.
Леопольд смотрел в окно, как родители чемоданы загружают, и плакал. Ненавидел их. Но больше всех сестру с розовой лентой в кудрявых льняных волосах. Мечтал, чтобы она утонула в этом Черном море, потерялась в Ялте или Севастополе. Чтобы они все выли от горя и тогда бы вспомнили про него.
Бойся своих желаний! Под Темрюком машина сорвалась в пропасть. Мать и отец погибли мгновенно. А эта пустоглазая выжила. Только позвоночник сломала. Да не так, как у него, а куда хуже! Лежачая на всю жизнь! И мамы с папой нет, чтобы за нее бороться! А с Леопольда какой спрос? Сам инвалид, да еще и тринадцать только исполнилось.
Ванду эту в больницу упекли на веки вечные. А к нему тетка матери заселилась, старая дева. Вечно губки поджатые, целый день Богу молится: «Матка боска, ченстоковска».
Платья маман на себя напялит, а они на ней как на корове седло.
Племянничка своего так и не полюбила, смотрела на Леопольда как на насекомое. А в детдом не отдашь – опекунство оформлено. Тогда из квартирки – тю-тю. Обратно в город Ковров, в комнату с печным отоплением.
Через пару лет тетка умирала от рака. В больницу он пришел один раз. Тетка его уже не узнала. Но ему было все равно. Через месяц Леопольду исполнялось восемнадцать, и это означало, что никакой детдом ему больше не грозит. Просто надо научиться выживать одному. Одному на всем белом свете. Про сестру Леопольд и не вспомнил. При чем тут она?
А потом один умный человечек подсказал, как дальше жить. (Дай бог ему рая небесного, всем ему обязан.)
Все, говорил, у тебя будет – и хлеба кусок со сливочным маслом, и на коньячок хватит, и на бабенку теплую. Бабы у нас увечных любят. Потому что жалостливые! А уж если увечный и при деньжатах! Не сомневайся, согреет.
Выучился он на часовщика. Капала денежка, капала. Небольшая, но на хлебушек с маслом хватало. И даже на икорку поверх маслица тоже. А потом одна старушенция пришла – чистенькая, сухонькая, в шляпке потертой. И дрожащими ручками протянула ему брошечку, в батистовый пожелтевший платочек завернутую. Он эту брошечку взял и чуть не ахнул. Еле сдержался.
Сказал:
– Покажу, постараюсь помочь. Есть люди, есть, кто может заинтересоваться подобным.
Старушка все причитала, что брошечка старая, очень старая. Еще прабабкина. Прабабка на балах в ней гарцевала.
Жалко брошечку, но пенсии не хватает, наследников нет. Если что, не дай бог, все соседке, пьянчуге деревенской, достанется. Или участковому (и он не лучше, тот еще хам).
А если уйдет брошечка… Можно и в театры походить, и в зал Чайковского. И пальто новое пошить, и телевизор! Ух, сколько всего можно! С телевизором ведь совсем другая жизнь!
Брошечка эта оказалась восемнадцатого века, самого конца. Тот советчик умный ее и задвинул. Деньги такие вышли, подумать страшно! Бабке он положил, не пожадничал. Та ему руки чуть ли не целовала. Говорила: «На всю жизнь, на всю жизнь теперь! Забуду копейки считать!»
А не пожадничал он потому, что ему тоже досталось столько, что на пару лет бы хватило жить, ни в чем себе не отказывая.
Потом эта бабка подружку свою привела. С мешочком холщовым на шее. Помог, не побрезговал. Бабки эти его благодетелем называли, чай пить и пирогов откушать приглашали.
Захаживал, чаек попивал. Молочко приносил, творожок рыночный. Лекарства от давления. Скоро бабок этих у него было – целый детский сад. Точнее – дом престарелых.
И все они его жалели: «Левушка, бедный мальчик! Сирота и хроменький наш!»
Через пару лет он уже имел свою клиентуру. Знали – фуфло не подсунет, фуфла у него нет.
То, с чем расставаться не хотелось, оставлял себе. Фарца начала к нему подкатывать – отшивал. Мелкий народец, ненадежный. Сидел только на своих клиентах. Там люди серьезные, толк в вещах понимают. В живописи разбираются.
Один раз зацепили его, всего один.
Но больше не трогали – был один клиент из «высоких». Из таких, что и говорить вслух страшно. Жена его очень камешки любила. Просто до одури. Особенно старинные и крупные. А клиент до одури любил жену – тоже немолодую и крупную.