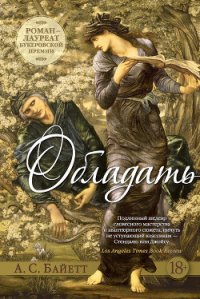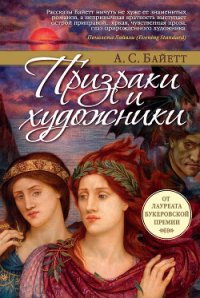Дева в саду - Байетт Антония (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Поэтому, с младых ногтей усвоив, что «Лир» правдивее и мудрее всего на свете, Фредерика ни разу не поразилась жизни настолько, чтобы спросить себя: зачем писать пьесу, вместо того чтобы прямо глянуть в глаза мрачным истинам старости, болезни, нечестивых дочерей, безумия, злобы, смерти? Зачем сочинять «О ветер западный…» [100], если можно лежать в объятиях возлюбленной или предаваться сладкой тоске разлуки?
Не зная иного, она считала, что стих и пьеса – значительней того, что призваны изобразить. Но вот Александр привычно явил ей Данаиду, и незнакомое чувство заставило ее задуматься: есть те, кто предпочтет изваять из камня женщину, и с ней мужчину или еще одну женщину, предпочтет стоять и смотреть на этот камень, чем заняться… чем угодно еще. Дома она вообразит другие сцены на этом диване и Александров палец, скользящий вдоль ее позвонков, но здесь ей хватило сметки: воображаемых нег покамест достаточно с лихвой. Она отодвинулась, прежде чем он успел пожалеть о каком-либо из своих жестов, – деликатность для нее редкая.
Александр раскаялся мгновенно. Он знал, каково это – что-то людям показывать, особенно то, что принадлежит тебе. Все равно что дарить. Дженни он показывал Данаиду, говорил с ней о загадках камней, пока они перебирали и разглядывали его курганчик. Она, в отличие от Фредерики, щедро всем восхищалась, быстро передружилась со всеми его вещами, различала камешек от камешка, находила эпитеты для белого отчаяния Данаиды. Дженни знала, что это отчаяние. Она приносила ему сюда разные вещички. Луковицы, цветшие в веджвудских чашах, принесла она, и плакала, освобождая их от бумаги: куплены на деньги Джеффри, ничего нет у нее своего, чтобы подарить Александру. Александр провел пальцем по мужам и девам на боку чаши и остановился перед «Мальчиком с трубкой». Тут была тайна – тайная его усмешка.
У Мальчика на голове корона из пыльных, рыжих, распутных роз. Он сидит, прислонясь к глиняной стене, расписанной бледными и пышными букетами. Лицо у него чисто и просто точенное, угластое, порочное, оценивающее. На нем тесная синяя куртка и штаны. Колени раздвинуты. Смятение пола: в паху глубокие складки и твердая выпуклость. Он может быть кем угодно, а вероятнее – всем сразу. Одну руку он свободно опустил между ног. Другой сжал короткую, ладную трубку и странным движением указывает себе в грудь. Никто из приходивших к Александру не замечал этих вполне очевидных вещей, не советовал убрать картину, как другим советовали спрятать подальше обнаженную Гогена или шлюху Лотрека. Может быть, потому, что Мальчик по смежности примыкал к группке Комедиантов, пестрых существ меж землей и небом, причастных тому и другому, переменчивых, бесплотных.
Александр знал, что он такое – этот Мальчик. И знал, что такое он сам, являющий Данаиду огненным девчонкам, но зрящий Мальчика как тайный знак. Мальчик не был ему желанен. То, что испытывал к нему Александр, ближе всего лежало к жгучей, нестерпимой зависти.
11. Действующие лица и оформители
Бесшумно – лоскутками и лентами, пестро́ – бусами, перьями, блестками пьеса оккупировала дом викария Элленби.
В прошлом году блесфордские дамы пти-пуаном [101] вышивали подушечки для преклонения колен, украсившие скамьи в церкви Святого Варфоломея. Кремовые, охряные лилии и рыбы на неброском фоне цвета хаки. Чтобы не видно было грязи.
Десять лет назад они собирали одежду для эвакуированных, карманные книги для солдат, вязаные шерстяные квадратики, что пойдут на одеяла для пострадавших от авианалетов.
В этом году они сооружали фижмы.
В Лондоне тем временем тысячи мелких жемчужин и хрустальных бусинок крепили на плотный белый атлас, и мерцание окутывало коронационное платье Елизаветы II. Цветными шелками вышивали по подолу эмблемы Содружества и Империи, розы и чертополохи, кленовые листья и желуди.
Фелисити Уэллс, заведуя костюмно-бутафорскими приготовлениями в Блесфорде, ощущала себя на пересечении бесконечных нитей старой и современной культуры, которые связывались по-новому, сплетались в новую ткань. В передней викария и на церковных ступенях стояли корзины для всего красивого и редкого, что могли уделить для постановки местные жители. На вышивальных курсах крохотные жемчужинки из пластика сажали расходящимися лучами на черный бархатный плащ сэра Уолтера Рэли. Серебряными лунами, золотыми птицами, алыми и белыми розами расшивали длинные платья, шлейфы, пышные расходящиеся мантии в пол. Скручивали ленточки в пионы и колоски для украшения вышитых подвязок.
– Мы все стосковались по ярким цветам! – воскликнула мисс Уэллс, высыпая на ковер содержимое сумки; новенькие катушки с вышивальной нитью, блестя, посверкивая, постукивая, раскатились россыпью тонов и оттенков. – Упоение! Признаюсь, Стефани: я всегда хотела целый ящик в комоде набить катушками, но до сих пор не было повода.
С самого начала Стефани решила держаться от пьесы как можно дальше. Ей с лихвой хватало Фредерикиных перипетий. К тому же именно оттого, что это была пьеса Александра, ей не хотелось выставляться, напоминать о себе (то ли скрытность, то ли род апатии). И если по вечерам в комнатке мисс Уэллс она сплетала позумент из золотых шнуров или на велосипеде катила через пустошь сообщить, что нужен китовый ус для фижм или линобатист для брыжей, то потому лишь, что не могла отказать Фелисити.
Как-то само собой повелось, что Дэниел свободные вечера проводил с ними. Женщины шили, а он, неспособный сидеть без дела, заваривал чай и мыл посуду.
С Дэниелом меж тем творилось неладное. Он оказался прав: Стефани, пару раз попробовав посидеть с Малькольмом, теперь приходила уже каждую неделю, чередуя субботу с воскресеньем. Мать, миссис Хэйдок, рыдала в комнате у Дэниела: от облегчения, от страха, что это закончится, от чувства вины перед Стефани и Малькольмом, которые нашли, похоже, способ переживать вместе эти невидимые для других часы.
– Это чудо, – твердила миссис Хэйдок. – Когда с ним мисс Поттер, в доме такая чистота. Просто стыд берет, как вспомню, что у нас-то с ним творится. Он ведь все крушит: как ни зайди, осколки, мука, грязь, а иногда и похуже. Конечно, мисс Поттер тоже убирать приходится: то он у нее чашки побьет, то бутылки от молока… Но у них всегда так тихо и опрятно, мистер Ортон… В дом приходишь, как в дом, нет этого шума вечного, не нужно сразу все по новой отмывать. И правда совестно: у мисс Поттер все так ладится, она так умеет себя поставить, а я…
– Вы его мать, – отвечал Дэниел. – Он вас знает, поэтому ведет себя по-другому. Мисс Поттер-то приходит раз в неделю. Но она, конечно, сокровище, и я очень рад, что у вас с ней ладится.
Несколько раз он заходил посмотреть, как Стефани управляется с Малькольмом. Это, собственно говоря, было даже его обязанностью. Обычно она и мальчик сидели, погруженные каждый в свою отдельную тишину. Стефани – в кресле, сложив руки на коленях, Малькольм, как всегда, когда не был судорожно активен, – в углу, на полу, ритмично и поочередно ударяя головой в сходящиеся стены. Тишина была такая, что Дэниел вдруг оробел и не осмелился ее нарушить. Однажды бодрым пасторским голосом он спросил Стефани, как ей удается удерживать мальчика в спокойном состоянии. Она ответила: нужно совсем-совсем замереть и, как взгляд, отвести внимание в сторону. Мальчик за тобой повторит, и вы, отрешившись, спокойно высидите положенное время. Наверно, нужно как-то с ним общаться, занимать его, но она этого не умеет, не знает, как приступиться. По крайней мере, так он не наносит вреда.
– Да, вреда никакого, – подтвердил Дэниел.
Глядя на нее с мальчиком, сидя по вечерам в комнатке мисс Уэллс, Дэниел пришел к мысли, что вольно или невольно Стефани обращается с ним как с Малькольмом: отрешается, замыкает внимание, замыкает его в молчании. Вот она здесь, но ни единое его слово к ней не проникнет. Глухую и гладкую преграду возводит она, что-то вроде зеркального стекла. Не знаю, говорил он себе, зачем я вообще сюда хожу.