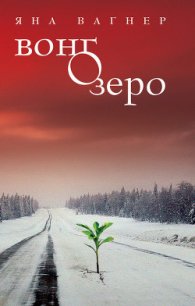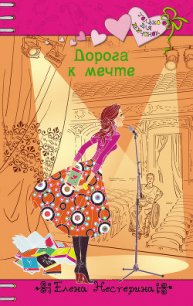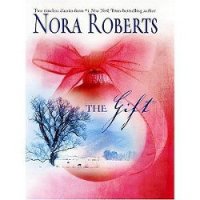Вонгозеро - Вагнер Яна (книги без сокращений .txt) 📗
— Есть две новости — плохая и очень плохая, — сказала я, потому что они ждали от меня каких-то слов, как будто оттого, что книжка была у меня в руках, я одна знала, что нужно делать, — если нож вошел неглубоко, нужно просто зашить рану и как-то остановить кровь, и тогда, если не начнется заражение, он выкарабкается — но ему нужно лежать, дня три или четыре, и все это время нам придется провести здесь.
Они продолжали молча смотреть на меня и ждали, что я скажу дальше, и тогда я закончила, мысленно радуясь, что здесь, в этой комнате, нет Марины, а девочка еще слишком мала, чтобы понять мои слова:
— Если нож вошел глубоко, проткнул брюшную стенку и повредил что-нибудь у него внутри, — сказала я, — мы ничем не сможем ему помочь, даже если зашьем рану и остановим кровь — он все равно умрет. Я только не знаю когда, — добавила я, потому что они все еще молчали, — там не написано. И мне кажется, это будет очень мучительная смерть.
— Что тебе нужно, чтобы зашить рану? — спросил наконец Сережа.
— В каком смысле — что мне нужно? — уточнила я испуганно. — Ты правда думаешь, что зашивать его буду я?
Никто не спорил со мной, но вопрос мой так и остался без ответа — вернулся Андрей, сообщивший, что баня начала прогреваться; стоя на крыльце, я наблюдала за тем, как мужчины осторожно вытаскивают Леню из машины, а затем медленно, проваливаясь в глубокие сугробы, несут его в баню. Дверца Лендкрузера так и осталась открытой, и в слабом свете салонной лампочки видно было, что Марина по-прежнему сидит внутри, сложив руки на коленях, — неизвестно, сколько бы она просидела так, не двигаясь и не поворачивая головы, если бы Наташа не сбегала за ней и не привела ее в дом — войдя, она тут же села в углу, возле стола, и снова замерла; ее прекрасный белоснежный комбинезон спереди весь был испачкан — рукава, грудь и даже колени были покрыты уродливыми бурыми пятнами, на которые она, впрочем, не обращала никакого внимания. Мишка принес из колодца ведро воды — в баню, в баню неси, сказала ему Наташа, пусть поставят на печку, чтобы согрелась, — она снова копалась в аптечке. Я боялась пошевелиться, лишний раз сказать что-нибудь, неужели они действительно рассчитывают на то, что я смогу взять в руки иголку и воткнуть ее прямо в страшный, бледный, перепачканный кровью Ленин живот; что, если он закричит, дернется, что, если я не смогу помочь ему, если все это причинит ему только дополнительные страдания, а потом он умрет — все равно, несмотря на все наши усилия? Что, если он умрет прямо там, пока я буду зашивать его?
Вошел папа:
— Все готово, девочки, — сказал он с порога, — надо идти. Ира, побудь с детишками, а ты, Наташа, помоги Анюте, — и заметив, что мы не двигаемся с места, повысил голос: — Ну что же вы, давайте, шитье — это женское дело.
— Нет-нет-нет, — проговорила Наташа быстро, — я точно не могу, и не просите, я при виде крови сразу в обморок падаю, вот, возьмите — иголка, нитка — самая толстая, какую я смогла найти, бинтов еще целая куча, все, что хотите, только я туда не пойду. — Она подошла ко мне и почти насильно впихнула мне в руки раскрытую пластиковую коробку, а я подумала: прекрасно, я должна идти туда одна, там, наверное, уже пахнет — так же страшно, как пахло в салоне машины, свежей кровью и страхом; я сделала шаг к двери, другой, и тогда Ира вдруг сказала:
— Подожди, я пойду с тобой.
В бане было еще не жарко, но куртки уже можно было снять; пахло скорее приятно — разогретым деревом и смолой, мы оставили верхнюю одежду в предбаннике и зашли в парилку — маленькую и тесную; Леню положили на верхнюю полку, прямо на светлые некрашеные доски; мужики, сказала Ира недовольно, постелили бы что-нибудь; они сняли с него ботинки, куртку и свитер, но брюки оставили — он лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, очень бледный и весь какой-то желтый, так что если бы не его отчетливое, неровное дыхание, я подумала бы, что он уже умер. К низкому дощатому потолку они прикрепили несколько связанных между собой фонариков — единственное освещение, которое было здесь доступно, — неровный, чуть дрожащий круг света, который они давали, был настолько мал, что не мог даже захватить целиком лежащего на полке человека, и его босые ноги с короткими расплющенными пальцами оказались уже за пределами этого круга, в темноте.
Я поставила аптечный ящичек на нижнюю полку, выпрямилась и посмотрела на Иру — она стянула через голову шерстяной свитер и осталась в светлой футболке с короткими рукавами; без толстого свитера она казалась совсем худенькой, длинная шея, торчащие девчачьи ключицы, тонкие, покрытые светлым пухом незагорелые руки. Мне было неловко вот так разглядывать ее, но я ничего не могла с собой поделать; похоже, она этого даже не заметила — связав свои длинные волосы узлом на затылке, она подняла голову и сказала:
— Давай руки вымоем, вода уже согрелась, наверное.
Дверь в парилку приоткрылась, на пороге снова показался папа.
— Держи, — сказал он, протягивая мне две бутылки — большую и маленькую, — вам пригодится, тут новокаин, чтобы хоть немного обезболить, и еще вот — спирт, для дезинфекции. А еще мы нашли вот это, — он приоткрыл дверь чуть пошире и осторожно внес невысокую, источающую теплый оранжевый свет стеклянную колбу, — поставьте себе куда-нибудь, чтобы посветлее было, только не переверните — она керосиновая.
Удивительно, но повязка была на месте — она сбилась, перепуталась и изрядно промокла, но по-прежнему плотно прижимала салфетки к ране; я попробовала было развязать стягивающие ее бинты, но безрезультатно. Отойди-ка, сказала Ира. В руках у нее были ножницы, она просунула лезвие под скомканную ленту бинта, и я со страхом увидела, как вздрогнул Ленин живот в том месте, где холодная сталь прикоснулась к коже, я не хочу этого делать, я просто не сумею, я еще даже не видела, что там, под салфетками, а мне уже плохо — не поднимая глаз, я попробовала вдеть нитку в иголку, и даже это было непросто, потому что руки у меня дрожали. Когда я уронила иголку во второй раз, Ира, спокойно стоявшая рядом, сказала:
— Знаешь что, давай-ка я.
— Разве ты умеешь? — спросила я, поднимая на нее глаза.
— Можно подумать, ты умеешь, — ответила она, иронически скривившись, — дай сюда иголку. Мое фирменное блюдо — фаршированная утка, так что я прекрасно сшиваю мясо, — я поежилась; заметив это, она продолжила, слегка повысив голос: — И я не вижу, чем Леня отличается от утки, разве что мозгов поменьше, — говорила она громко и очень уверенно, но лицо и даже поза, в которой она стояла — широко расставив ноги, обхватив руками узкие плечи, — выдавали ее — она боялась, боялась так же сильно, как и я, интересно, зачем тебе это, подумала я, что ты хочешь мне этим доказать — что мы друзья или что ты сильнее меня?
Она взяла бутылку спирта, с тихим хлопком откупорила ее и, подумав, сделала глоток — небольшой, прямо из горлышка, плечи у нее судорожно дернулись, лицо скривилось, она протянула бутылку мне и сказала:
— Глотни.
Я приняла бутылку из ее рук и осторожно понюхала — на глазах у меня выступили слезы.
— На вкус он еще хуже, — заметила Ира, ее бледные щеки уже начали розоветь, — но я бы все равно глотнула на твоем месте.
Я поднесла бутылку к губам — обжигающая отвратительная жидкость наполнила рот, горло сдавило спазмом, я не смогу это проглотить, ни за что не смогу, подумала я — и проглотила, и мне сразу стало немного легче.
Леня очнулся не сразу — может быть, он ослабел от потери крови, а может, новокаин хотя бы немного действовал, — он лежал спокойно все время, пока мы промывали рану спиртом, пытаясь смыть с его желтоватого, бледного живота потеки крови — засохшей и свежей, и даже не вздрогнул, когда Ира первый раз воткнула иголку — я не выдержала и отвернулась, и она тут же сказала: