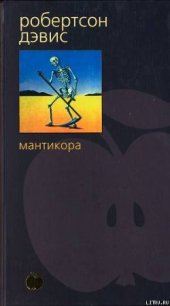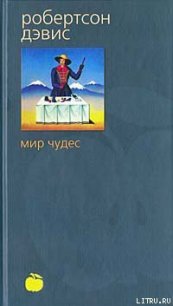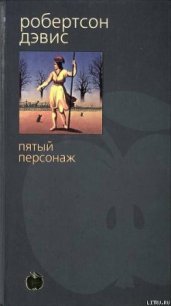Лира Орфея - Дэвис Робертсон (книги полностью txt) 📗
— Но как это может быть замечательно современная идея, если она верна Гофману и началу девятнадцатого века? — возразил Холлиер. — Вы забываете, что наша задача — восстановить и завершить произведение искусства давно ушедшей эпохи.
— Профессор Холлиер, вы удивительно тупы — так может быть туп только человек высочайшей учености, и потому я вас прощаю. Но во имя любви ко всемогущему Господу и Его Пречистой Матери, чье изображение Артур носил на щите, я умоляю вас заткнуться, оставить творческую работу творцам и прекратить ваше научное блеяние. Настоящее искусство, когда бы его ни создали, едино и говорит о великих вещах жизни. Вбейте себе это через толстый череп в свою великую, прекрасно оборудованную голову и заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь!
Доктор ревела богатым контральто, какое не посрамило бы и Моргану Ле Фэй.
— Ничего, — сказал Холлиер. — Я не оскорблен. Я выше бессвязных выкриков пьяной мегеры. А вы все давайте вперед, выставляйте себя ослами. Я умываю руки.
— Клем, ты хочешь сказать, что умываешь руки до следующего раза, когда тебе захочется вмешаться, — сказала Пенни. — Я тебя знаю.
— Пожалуйста! Ну пожалуйста! — теперь на крик перешел Даркур. — Такое поведение не подобает собранию ученых и людей искусства. И я не намерен больше этого слушать. Вы ведь знаете, о чем говорит доктор, да? Это было впервые сказано… ну, но крайней мере, Овидием. Он где-то говорит, кажется в «Метаморфозах», что великие истины жизни — это воск и все, что мы можем, — оставлять на нем различные оттиски. Но воск вечен и неизменен…
— Я помню, — сказала Мария. — Он говорит: ничто не сохраняет свою собственную форму, но Природа, великая обновительница, вечно творит новые формы из старых. Во всей вселенной ничто не погибает — лишь изменяется, приобретая новый вид…
— И это правда, которая лежит в основе всех мифов! — заорал Даркур, махая руками на Марию, чтобы она замолчала. — Если мы верны великому мифу, то можем придавать ему какую угодно форму. Сам миф — воск — не меняется.
Доктор, которая в это время зажигала сигару, вытащенную из серебряного футлярчика, сказала Пауэллу:
— Я начинаю видеть, как буду действовать. Сцена, в которой Артур прощает любовников, будет в ля миноре, и в этот ля минор мы будем впадать и выпадать из него до самого конца, когда волшебник провожает Артура, уплывающего на Остров Снов. Вот как мы это сделаем.
— Конечно, Нилла, именно так мы и сделаем, — сказал Пауэлл. — Минор вылепляется прямо из воска, горячий и крепкий. И не стоит суетиться насчет соответствия оперы девятнадцатому веку. Она будет художественно верна ему, но не стоит ждать буквальной верности, потому что… ну, потому что буквальная верность девятнадцатому веку была бы фальшивой. Вы видите?
— Да, я очень хорошо вижу, — сказал Артур.
— Артур, ты такой милый, — сказала Мария. — Ты все видишь лучше нас всех.
— А я вижу, что нас ждет множество трудностей, — сказал Холлиер.
— Я вижу воск, и я уверен, что вы двое, крепкие профессионалы, видите форму, и я совершенно удовлетворен, — сказал Даркур.
— Благослови тебя Господь, Сим-бах, — сказал Пауэлл. — Ты — старый добрый Мерлин, вот ты кто, друг мой.
— Пауэлл, этот Мерлин, этот волшебник, он важнее в твоей истории, чем я думала, — заметила доктор. — В оперной терминологии его можно назвать пятым персонажем, и певца на эту роль следует подбирать очень обдуманно. Какой у него голос, как ты думаешь? У нас есть бас-негодяй, баритон-герой, тенор-любовник, контральто-злодейка, колоратурное сопрано — героиня и меццо-сопрано — простушка, эта обманутая девушка… как там ее… Элейна. А кто будет Мерлин? Что вы скажете о haute contre — ну знаете, такой высокий, неземной голос?
— Контртенор? Чего же лучше! Он будет не похож на всех остальных.
— Да, и очень полезен в ансамблях. Эти мужские альты похожи на трубу, только звучат странно…
— Призыв рожка из края феи, [41] — процитировал Пауэлл.
— Вам, кажется, либретто понравилось в том виде, в каком его изложил Герант, — заметил Артур.
— О, нам придется кое-что менять в ходе работы, — ответила доктор. — Но это хорошая схема: связная и простая для людей, которые не могут следить за сложным сюжетом, но с глубоким скрытым значением. У оперы должно быть основание: что-то большое, как несчастная любовь, или месть, или какой-нибудь вопрос чести. Потому что людям это нравится, понимаете? Они сидят, все эти биржевые брокеры, богатые пластические хирурги и менеджеры страховых компаний, такие серьезные и спокойные, словно ничто в мире их не задевает. Они приходят слушать «Богему» или «Травиату» и вспоминают какую-нибудь любовную интрижку — со стороны она показалась бы жалкой, но это была их молодость; или они слушают «Риголетто» и вспоминают, как генеральный директор унизил их на последнем заседании совета директоров; или «Макбета» — и думают, как хорошо было бы убить генерального и занять его место. Только они это не думают — они это чувствуют, очень глубоко, под поверхностью, и там, в глубине, оно кипит, это страдание, в примитивном подземном мире их душ. Но они ни в чем не признаются, даже если вы на колени встанете. Опера, как ни одно другое искусство, говорит с сердцем человека, потому что она по сути своей проста.
— А что вы видите как глубоко заложенное основание нашей оперы?
— Очень красивую концепцию, — ответил Пауэлл. — Победу, выхваченную из пасти поражения. Если у нас получится, у зрителей будет рваться сердце. Артур не нашел Грааль, потерял жену, потерял корону, потерял саму жизнь. Но его благородство и величие духа, когда он прощает Гвиневру с Ланселотом, делают его героем. Он подобен Христу: с виду — побежденный, но на самом деле — величайший из победителей.
— Вам понадобится первоклассный исполнитель, — заметила Мария.
— Да. И я уже присмотрел одного, но не скажу вам, кто это, пока он не подпишет контракт.
— Это алхимическая тема, — сказала Мария. — Золото из отбросов.
— Знаете что? Я думаю, вы правы, — отозвался Холлиер. — Мария, вы всегда были моей лучшей студенткой. Но если вам удастся вытянуть такое из подлинной постановки девятнадцатого века, вы будете поистине алхимиками.
— Мы и есть алхимики, — сказала доктор. — Это наша работа. Но теперь мне нужно идти домой. Завтра я должна быть свежа, чтобы просмотреть все заметки Гофмана, пока то, о чем мы сегодня говорили, не изгладилось из памяти. И это надо сделать до того, как я поговорю с малюткой Шнакенбург, что бы она из себя ни представляла. Поэтому я желаю вам доброй ночи.
Доктор, прямая, как гренадер, твердым шагом обошла комнату, пожимая всем руки.
— Позвольте, я вызову вам такси, — сказал Даркур.
— Нет, ни в коем случае. Прогулка меня освежит. Здесь не больше двух миль, и ночь очень свежа.
С этими словами доктор схватила Марию в объятия и поцеловала ее долгим поцелуем.
— Не беспокойтесь, малютка, — сказала доктор. — Ваш ужин был очень хорош. Конечно, не аутентичен, но лучше настоящего. Совсем как наша опера.
И она удалилась.
— Господи, вы видели, сколько эта женщина выпила? — воскликнула Пенни, когда доктор ушла. — И ни разу — ни единого разу за все шесть часов — не сходила в туалет. Она вообще человек?
— Определенно человек, — сказала Мария, вытирая рот носовым платком. — Она засунула мне язык в рот чуть не до самых гланд.
— Меня она не стала целовать, вы заметили? — спросила Пенни. — Впрочем, я и не горю желанием. Старая похабная лесбиянка. Берегитесь, Мария. Она на вас глаз положила.
— До чего мерзкая сигара! Я теперь неделю буду ходить с этим вкусом во рту, — пожаловалась Мария. Она взяла свой бокал, отхлебнула шампанского, звучно прополоскала рот и сплюнула в пустую чашку из-под кофе. — Я никогда не думала, что привлекательна в этом смысле.
— Вы привлекательны во всех смыслах, — произнесла Пенни, впадая в слезливое настроение. — Это нечестно.
41
Теннисон А. Рожок (из поэмы «Принцесса»). Пер. Эммы Соловковой.