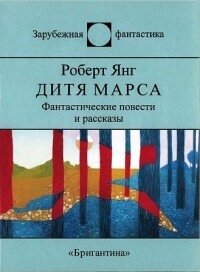Измышление одиночества - Остер Пол (читать книги без регистрации txt, fb2) 📗
Старик пускается в свой нелепый рассказ. Газель эта, как выясняется, – его жена. «Я женился на ней, когда она была совсем юной, и прожил с нею около тридцати лет, но не имел от нее ребенка». (Опять: отсылка к отсутствующему ребенку – умершему, еще не рожденному – отсылает ифрита к его собственной скорби, но косвенно, как к части того мира, где жизнь приравнена к смерти.) «И тогда я взял наложницу, и она наделила меня сыном, подобным луне в полнолуние, и глаза и брови его были совершенны по красоте!» Когда мальчику исполнилось пятнадцать, старик отправился в другой город (он тоже был купцом), и в его отсутствие ревнивая жена волшебством превратила мальчика и его мать в теленка и корову. «Твоя жена умерла, а твой сын убежал, и я не знаю, куда он ушел», – сказала ему жена по его возвращении. После года скорби корову принесли в жертву – кознями ревнивой жены. А когда человек немного погодя намеревался забить и теленка, сердце его не выдержало. «И когда теленок увидел меня, он оборвал веревку и подбежал ко мне и стал об меня тереться, плача и стеная. Тогда меня взяла жалость, и я сказал пастуху: “Приведи мне корову, а его оставь”». Дочь пастуха, тоже обученная волшебству, впоследствии обнаружила, кем на самом деле был теленок. Купец выполнил два условия девушки (выдать ее замуж за своего сына и заколдовать ревнивую жену, заключив ее в тело животного – «иначе мне угрожают ее козни»), и после этого она вернула сыну его первоначальный вид. Но история на этом не вполне завершается. Невеста сына, продолжает свои пояснения старец, «жила с нами дни и ночи и ночи и дни, пока Аллах не взял ее к себе, а после ее кончины мой сын отправился в страны Индии, то есть в земли этого купца, с которым у тебя было то, что было; и тогда я взял эту газель, дочь моего дяди, и пошел с нею из страны в страну, высматривая, что сталось с моим сыном, – и судьба привела меня в это место, и я увидел купца, который сидел и плакал. Вот мой рассказ». Джинн соглашается, что история и впрямь великолепная, и уступает старцу треть купеческой крови.
Один за другим два оставшихся старца предлагают ифриту такую же сделку и начинают свои рассказы с одного и того же. «Знай, о владыка царей джиннов, – начал [второй] старец, – что эти две собаки – мои братья». «Знай, что этот мул был моей женой», – сообщает третий. В этих зачинах – суть всего предприятия. Ибо что означает смотреть на что-то, реальный предмет в реальном мире, животное, к примеру, и говорить, что это нечто иное, а не то, чем выглядит? Это означает утверждать, будто всякая вещь ведет двойную жизнь, одновременно в мире и у нас в уме, а отрицать какую-либо одну из этих жизней – это убивать вещь в обеих ее жизнях сразу. В историях трех старцев друг к другу обращены два зеркала, каждое отражает свет другого. Оба – волшба, оба реальны и воображаемы, и каждое существует лишь благодаря другому. И это поистине дело жизни и смерти. Первый старик пришел в сад в поисках сына; ифрит – чтобы убить невольного убийцу своего сына. Старик на самом деле рассказывает ему, что наши сыновья всегда незримы. Проще истины тут нет: жизнь принадлежит только тому, кто ее проживает; сама жизнь предъявит требование на живущих; жить – это давать жить другим. А в конце посредством трех этих историй жизнь купца оказывается спасена.
Вот как начинается «Тысяча и одна ночь». В конце же всей хроники, после рассказа за рассказом за рассказом, – конкретный результат, и в нем – неизменная суровость чуда. Шахразада родила царю троих сыновей. Урок ясен вновь. Говорящий голос, женский говорящий голос, голос, что рассказывает истории о жизни и смерти, имеет силу даровать жизнь.
«Есть ли у меня право перед твоим величеством, чтобы я могла пожелать от тебя желание?”
И царь сказал ей: “Пожелай, получишь, о Шахразада”.
И тогда она кликнула нянек и евнухов и сказала им: “Принесите моих детей”.
И они поспешно принесли их, и было их трое сыновей, один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь. И когда их принесли, Шахразада взяла их и поставила перед царем и, поцеловав землю, сказала: “О царь времени, это твои сыновья, и я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей”» [117].
Заслышав эти слова, «царь заплакал и прижал детей к груди». Он признается в любви к Шахразаде.
«И город украсили великолепным украшением, подобного которому раньше не было, и забили барабаны и засвистели флейты, и заиграли все игрецы, и царь наделил их дарами и подарками, и роздал милостыню нищим и беднякам, и объял своей щедростью всех подданных и жителей царства».
Зеркальный текст.
Если у голоса женщины, рассказывающей истории, есть сила привести в мир детей, так же истинно, что у ребенка есть сила оживлять истории. Говорят, человек сойдет с ума, если по ночам ему не будут сниться сны. Точно так же, если ребенку не позволять вступать в воображаемое, он никогда не сможет совладать с действительным. Потребность ребенка в историях так же фундаментальна, как и его потребность в пище, и проявляется она так же, как и голод. «Расскажи мне сказку, – говорит ребенок. – Расскажи сказку. Расскажи, папа, ну пожалуйста». Тогда отец садится и рассказывает сыну сказку. Или же ложится рядом в темноте, устроившись на детской кроватке, и начинает говорить так, словно в мире не остается больше ничего, один лишь голос его, рассказывающий сыну историю в темноте. Часто это волшебная сказка или повесть о приключениях. Однако чаще всего это простой скачок в воображаемое. «Некогда жил-был маленький мальчик по имени Дэниэл», – говорит О. своему сыну по имени Дэниэл, и эти истории, в которых герой – сам мальчик, быть может, нравятся ему больше всех. Точно так же, осознает О., сидя у себя в комнате и сочиняя «Книгу памяти», он говорит о себе как о другом, чтобы рассказать историю о себе. Он должен удалить себя, чтобы себя обрести. И потому говорит: О., хотя имеет в виду «я». Потому что история памяти – это история ви́дения. И даже если того, что нужно видеть, здесь больше нет, это история видения. Голос, стало быть, не умолкает. И хотя мальчик закрывает глаза и засыпает, не умолкает отцовский голос в темноте.
«Книга памяти». Книга двенадцатая.
Дальше зайти он уже не может. Дети страдали от рук взрослых вообще безо всякой причины. Детей бросали, оставляли голодать, убивали – и причин тому не было никаких. Невозможно, понимает он, зайти дальше.
«Но вот однако же детки, – говорит Иван Карамазов, – и что я с ними стану тогда делать?» И далее: «Я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены» [118].
Каждый день без малейших усилий он обнаруживает: у него это перед самым носом. Это дни краха Камбоджи, и он здесь каждый день – смотрит на него с газетного листа, неизбежными фотографиями смерти: истощенные дети, взрослые, у которых в глазах ничего не осталось. Джим Хэррисон, к примеру, инженер Оксфама [119], отмечает у себя в дневнике: «Посетили медпункт на 7-м километре. Совершенно никаких препаратов или медикаментов – серьезные случаи истощения – явно просто умирают от нехватки пищи… Сотни детей истощены – много кожных заболеваний, облысения, обесцвечивания волос и сильного страха среди всего населения» [120]. Или далее, описывая то, что видел при посещении Больницы им. 7 января в Пномпене: «…жуткие условия – дети в постелях в грязном тряпье умирают от истощения – никаких медикаментов – никакой еды… От ТБ на фоне истощения у людей вид узников Бельзена. В одной палате тринадцатилетний мальчик привязан к койке, потому что буйствовал – многие дети осиротели – или не могут найти свои семьи – и у людей наблюдается множество нервных тиков и конвульсий. Лицо одного полуторагодовалого мальчика полностью разрушено, похоже, кожной инфекцией, плоть распалась от детской пеллагры в серьезной форме – в глазах гной, его держит на ручках пятилетняя сестра… Мне все это вынести очень трудно – и подобная ситуация наверняка сейчас у сотен тысяч кампучийцев».