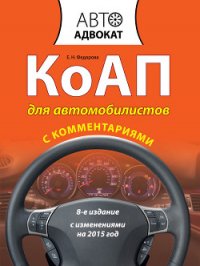Бездомная - Михаляк Катажина (читать книги бесплатно полные версии .TXT, .FB2) 📗
Ася влетела в больничный коридор три часа спустя, полумертвая от усталости и от страха за Кингу. Чарек, опустив плечи, сидел на стуле у стены. Его лицо и руки были в черных пятнах от запекшейся крови, которую он не догадался смыть; в таком виде он и сам смахивал на жертву несчастного случая.
Он слышал торопливые шаги, но не поднял головы. Асе пришлось толкнуть его в плечо, чтобы он взглянул на нее.
– Она жива? – Это все, что она хотела знать.
– Еще жива. Она там, – он указал на запертую дверь отделения реанимации. – Я сказал, что я ее муж. Они не знают, что Кинга – это Кинга, понимаешь? Обещали сообщить мне, если…
Но Ася уже не слушала его. Она подбежала к двери, нажала на кнопку внутренней связи и ждала, пока ей не откроют. Наконец дверь приоткрылась, медсестра что-то сердито зашептала и помотала головой, но, по-видимому, Ася обладала даром убеждения, и медсестра наконец уступила.
Молодая женщина-врач, которая за дежурным столиком просматривала какие-то документы, нахмурила брови, увидев постороннюю.
– Я ее сестра, – умоляюще шепнула Ася, вглядываясь в неподвижный силуэт на одной из трех кроватей за полупрозрачным стеклом. – Пожалуйста, я только на минуту.
– Пациентка в критическом состоянии, – вполголоса ответила врач. – Она потеряла много крови. Она…
– Знаю, знаю, дорогая пани доктор, но я ведь только на минутку. Я скажу, что люблю ее. Дотронусь до ее руки, чтобы она знала, что она не одна. Мы уже оставили ее одну, когда она нуждалась в нас. Я хочу, чтобы она все-таки знала: мы с ней, мы всегда будем с ней… Пожалуйста… Это очень важно…
Слезы бежали у Аси по щекам. Это были искренние слезы, хоть на словах она и лгала. Она хотела – нет, даже не хотела: должна была! – сказать Кинге нечто гораздо более важное…
Женщина-врач, глядя на заплаканную сестру самоубийцы, наконец кивнула головой. Она знала, как важны для таких пациентов слова поддержки от родных и близких.
– Всего на одну минуту. Я засекаю время! – предупредила она, и полупрозрачное стекло раздвинулось перед Асей.
Та, не теряя ни одной драгоценной секунды, прильнула к кровати, на которой, вся в бинтах и в проводах аппаратуры, поддерживающей жизнь, лежала Кинга. Взяв в свою руку тонкую, почти прозрачную ладонь Кинги, Ася склонилась к раненой и шепнула:
– Алюся жива, слышишь, Кинга? Я нашла твою дочку, она жива и невредима. Я ее видела. Я видела ее, милая. Твой ребенок жив.
Ася глядела на неподвижное лицо женщины – и ждала чуда. Ждала, что Кинга сейчас откроет глаза и попросит повторить сказанное, и тогда… Но что это – Кинга без сознания, а по лицу ее пробежала тень улыбки? Или Асе лишь показалось? Но пальцы Кинги, которые Ася держала в своей руке, вдруг легко – легонько – сжались, а потом… потом…
…зеленая линия на мониторе прыгает вверх-вниз.
Женщина-врач вскидывает голову над бумагами.
Зеленая линия падает и дальше тянется прямо, деля монитор пополам.
Палату пронизывает нестерпимый вой тревожной сирены, который все не утихает…
Сирена все еще звучит, когда ничего не понимающую Асю отталкивают … Все еще звучит, когда кровать вдруг обступает толпа врачей и медсестер… Когда кто-то кричит:
– Внимание, дефибрилляция, раз, два, три!
Сирена на мгновение стихает. Все вглядываются в экран кардиомонитора. Все, кроме Аси, которая видит только эту улыбку на бледнеющем лице подруги. И чувствует легкое пожатие ее пальцев.
Она будет помнить тепло этой улыбки и прикосновение руки Кинги. Помнить и знать: хотя самой Кинги больше нет на земле, но ее душа, измученная душа этой несчастной женщины наконец обрела свободу и легкость – ведь «твой ребенок жив».
Разве эти три простых слова – не самый прекрасный прощальный дар?
Кинга, ты невиновна.
Твоя дочь жива.
Если бы только ты могла увидеть ее и обнять хоть раз…
Один-единственный последний раз…
Эпилог
И хорошо, Кинга, что тебя нет в живых! Знаю, это звучит жестоко, отвратительно, цинично и так далее, особенно через полгода после того, как я так искренне тебя оплакивала и сама чуть в психбольницу не загремела с депрессией; но сейчас, в ретроспективе этих шести месяцев, я повторяю: хорошо, что тебя нет в живых. Твоя смерть – счастье и для тебя, и для твоей Алюси. А какой была бы твоя дальнейшая жизнь, бедняжка?
Разумеется, ты бы всячески старалась забрать ребенка, чтобы воспитывать его самой.
Разумеется, пан Станислав с женой (кстати, они те еще хитрецы: фамилии их я не знаю, телефон, с тех пор как я сообщила им о твоей смерти, не отвечает; они просто исчезли, улетучились, будто эфир, вместе с маленькой Аней, она же твоя Аля; но когда-нибудь я их найду, будь спокойна) – пан Станислав с женой стали бы за ребенка бороться.
А суд – ты ведь отлично знаешь, какого я мнения о польском кривосудии! – суд бы заключил, что ты сумасшедшая (и не совсем безосновательно – у тебя ведь есть карточка в «желтом доме»), а пан Станислав с женой – преступники (и опять небезосновательно – нельзя же вот так просто оставлять себе ребенка, пусть даже и откопав его из-под листвы и мха!). До окончания судебного процесса малышка Аня – то есть Аля – оказалась бы в детском доме или у временных опекунов. Вдруг бы она попала к каким-нибудь психопатам – бывали же случаи, когда опекуны убивали подопечных?
Если бы ко всей этой катавасии подключился Кшиштоф, юридический отец Али Круль, и – вот смеху-то было бы! – Чарек, ее биологический отец, то твоя дочка торчала бы в приюте для сирот вплоть до совершеннолетия, поскольку все эти годы за нее шла бы борьба между четырьмя сторонами.
Конечно, я бы болела за тебя, хотя твое положение изначально было бы проигрышным: кому-кому, а сумасшедшей ребенка не отдадут, даже если целая армия экспертов заключит, что она уже здорова, как бык; пардон, «убила раз – убьет и снова». Вот что бы ты сделала, услышав приговор суда: «Кинга Круль лишается родительских прав, при этом заботиться об Алиции Круль надлежит…» кому-то там, или вообще никому, или органам опеки и попечительства? Разумеется, ты бы впала в депрессию и покончила с собой, то есть результат для тебя был бы тот же: ты бы все равно умерла, а дочка твоя все детство провела бы в лишениях. А сейчас у нее есть любящие родители; быть может, она вырастет нормальной, счастливой.
Теперь ты понимаешь, Кинга, что, умерев, ты поступила правильно? Что так лучше для твоего ребенка?
Я даже верю, что… именно поэтому ты и умерла: я тебе сказала, что Аля нашлась, что ты ее не убила, что она жива, и ты… решила, что можешь спокойно умереть. Ведь ты мне улыбнулась и сжала мою руку, разве не так? Я помню твою улыбку; наверное, только благодаря этому я не покончила с собой, терзаясь чувством вины – ведь я винила себя в твоей смерти. Это же моя статья убила тебя. Но она тебя и оправдала, не так ли?
Знаешь, что для меня больнее всего? Что ты, такая хорошая, добрая женщина – и, как оказалось, невиновная, – лежишь здесь, под холодным черным камнем (неплохой я тебе памятник поставила, да?), а подлинные извращенцы, все эти Каролины М., мамаши маленьких Пшемеков и Гжегожей, звери в человеческом обличье, садисты, способные замучить до смерти трехмесячного ребенка, – все эти психопаты безнаказанно разгуливают по земле и смеются нам в лицо…
Я не могу этого понять, не могу смириться с этим.
Не могу смириться и с тем, что люди – нормальные, порядочные люди – никак не реагируют, слыша за стеной, у соседей, крики избиваемого ребенка. С тем, что кредо «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» становится все более распространенным: ведь так удобнее, ведь не хочется вмешиваться, ведь мы уже ко всему привыкли, ко всему стали равнодушны…
А все эти «голубые линии» [5] , органы опеки и попечительства, суды? Оттрубить свое с восьми до шестнадцати и получить зарплату в конце месяца – вот и все, к чему стремятся все эти чинуши.