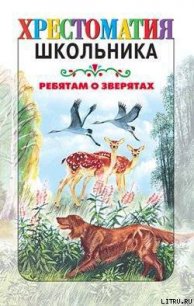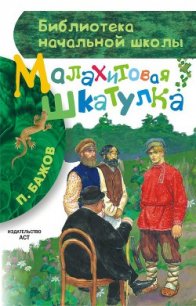Рождественские рассказы русских и зарубежных писателей - Набоков Владимир Владимирович (чтение книг TXT, FB2) 📗
Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой.
– Зачем? А-а-а… Да двигай же ее, штоб она сдохла, подлая! – говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку.
До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол.
– Малаша! – кричит Дядечкин. – Сичас Новый год!
Меланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга… Она долго глядит на часы: муж не врет.
– Ну как тут быть? – шепчет она. – А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился! Гм. Наказание. Как я им подам?
И, подумав немного, Меланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут.
– Подождут! – говорит хозяйка и бежит в кухню.
Антон Павлович Чехов. Ночь на кладбище
– Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь страшное!
Иван Иваныч покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:
– Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши… Встречал я новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег…
Итак, напился я с горя… Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая… Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы… Бедная природа переживала фридрих-гераус… Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение…
«Жизнь – канитель… – философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. – Пустое, бесцветное прозябание… мираж… Дни идут за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был… Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим… В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»
Шел я с Мещанской на Пресню – дистанция для выпившего почтенная… Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву…
Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью… Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился… Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх… Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.
«Извозчик!» – закричал я.
Ответа не последовало… Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал… Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь… То я бежал по тротуарам, то по дороге… Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.
Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:
– Не помню, как долго я бежал… Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет… Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного… Я сел на него, чтобы отдохнуть… Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите…
Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил… Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет… И представьте мой ужас! Это был деревянный крест…
«Боже мои, я попал на кладбище! – подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. – Вместе того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»
Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов… Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод…
«Не может быть! – утешал я себя. – Это оптический обман, галлюцинация… Все это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи… Трус!»
И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги… Кто-то медленно шел, но… то были не человеческие шаги… для человека они были слишком тихи и мелки…
«Мертвец», – подумал я.
Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул… Засим я услышал вой… Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу… Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я отупел и окаменел от ужаса… Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа… Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван…
«Боже, хоть бы скорее утро», – молился я.
Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги… Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня… Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо… Я потерял сознание.
Иван Иваныч выпил рюмку водки и крякнул.
– Ну? – спросили его барышни.
– Очнулся я в маленькой квадратной комнате… В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет… «Ну, – подумал я, – это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили»… Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:
«Где ты его взял?» – допрашивал чей-то бас.
«Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, – отвечал другой бас, – где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет… Должно, выпивши…»
Утром, когда я проснулся, меня выпустили…
Антон Павлович Чехов. Страшная ночь
Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом:
– Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи…