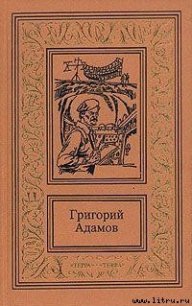Музейный роман - Ряжский Григорий Викторович (чтение книг .txt, .fb2) 📗
Но только не довелось и не понадобилось, поскольку на другой же день, оставив тщетные попытки пересечься с директрисой, столкнулась лоб в лоб с ещё живой тогда и здоровой замшей. И, набравшись смелости, поинтересовалась у той насчёт чего бы такого почитать про русский авангард, что так внезапно заинтересовал её своей необычностью и необъяснимостью возникновения, как совершенно отдельное и невероятно мощное направление в живописи и искусстве вообще. Та неожиданно оказалась любезной, улыбнулась хорошо, приветливо, хоть, по словам людей, и была дрянь. После чего завела в свой кабинет, пошуршала там листиками и в результате скомандовала:
— Так, записывайте… Иванова вроде бы?
Ева знала, что фамилию её та запомнила из-за палки. Из-за болезной хромоты. Иначе — никогда бы в жизни. Но всё равно была ей благодарна, лишний раз наказав себе не забыть дать знать этой Коробьянкиной о начале её смертельной хвори. А вдруг она, смотритель Иванова, не права в своём предвидении, да и врачи к тому времени уже, может, верное средство найдут против этой злой и насмерть убийской саркомы.
Ева записала под диктовку четыре подходящих издания, все про это дело, и все, как потом она же для себя решила, в масть. Умнейшие люди оказались: Сарафьянов, Карминский, Штерингас, Геринсон. Даже подумать не могла, что вообще настолько глубоко можно мыслить в отношении изображения, не затрагивающего, казалось бы, напрямую ни душу твою, ни глаз. Правда, первый, Сарафьянов, оказался поинтересней остальных в изложении понятий и смыслов. Кроме того, массу непонятных терминов и слов использовал, явно с целью не допустить сюда чужих, не дотягивающих образовательным цензом до отдельно взятого прекрасного. Но она справилась, одолела, хотя читка заняла, как и первое пробное осмысление текстов, чуть ли не год с приличным добавком. Но и шла ведь, с другой стороны, помалу, осторожно, чтобы не спугнуть собственный интерес, не разрушить своё же благое начинание, идущее встык и поперёк всему, что за годы смотрительства своего выучилась видеть, чувствовать, понимать.
Отдельно от книг замша дала ещё ссылку на несколько материалов и статей искусствоведа Льва Алабина, специалиста по русскому авангарду. А вместе с этим подарила и брошюру с давней выставки, собственный экземпляр, где про портрет мамы художника хороший материал имелся, того же опытного Льва. Оказалось, русский авангард этот, начало прошлого века, — время, сплошь состоящее из гениев и новаторов живописного искусства. То, к чему она раньше и не подступалась, изначально нацелив себя на классику, где писаное да рисованное походило на оригинал, бывало, что до дрожи в коленках, до самозабвенной дурноты, до колик в животе и отдельно в кишках. Да взять хоть того же Ивáнова Александра Андреевича, великого академиста, живописца от Бога и про Бога, но только для народа. Да у неё, Ивановой, всё аж заходится, когда она на «Явление Христа народу» любуется, устроившись на лавочке в центре зала. Подолгу сидит. Бывает, хоть до Третьяковки путь и не близкий и не самый удобный от своего музея, но замрёт, добравшись через хромое путешествие, и по часу молчит перед ней. Или даже больше. Смотрит и не верит, что человек такое написал, один. И не ангелы ему помогали небесные, и не архангелы святые, а сам сподобился, самолично дичайшую трудность эту одолел и в памяти людской навсегда остался. А лица-то, лица какие, как выписаны, как глаза выразительны, как просящи, умоляющи, как скорбящи и безутешны, и сколько надежды в них на чудо, на благость, на ответную любовь.
Это была любимая картина. И если бы даже вновь и вновь Ева Александровна мысленно возвращалась ко всему предыдущему багажу, ко всему отсмотренному и изученному ею, то вряд ли нечто иное или даже совсем новое смогло бы занять это навсегда уже занятое в душе её место. И потому раз-два в год, как на работу, — в Третьяковку. Хоть и конкуренты с ней. Но только в наилучшем, в сердечном смысле слова.
А ещё было просто. Там, у старых классиков, все были надёжно мертвы, слишком мертвы. Больно уж давно это было, если считать от обозримых эпох. Отовсюду дуло холодом времён. Оттого, наверное, и не было специальных причин напрягать затылок, чтобы войти в ненужное единство, как это случилось у неё с Винсентом Ван Гогом, с его хризантемами и васильками. Она ведь после того случая почти уже успокоилась, перестала подмечать эти лёгкие несовпадения образа и факта. Да и не нужно ей было того, главное для неё оставалось неизменным: утопить себя в счастии созерцания непостижимого, а как оно создавалось, великое это и неохватное, было, в общем, всё равно. Того, что имелось, ей обычно хватало и так, чтобы в очередной раз избавить себя от грусти, уйдя ненадолго в смежное пространство, поддавшись заботе незримого ласкового друга, который в минуты просимые закатывал ей невидимый рукав и, медленно вжимая поршень, вбрызгивал под тонкую кожу порцию расслабляющего душу препарата.
Тут же всё было наоборот. Буквально всё состояло из непонятного, отстранённого, чужого, загадочного для её поддавшегося не сразу, ничем подобным не тренированного ума. Но именно здесь, в малопонятном месте этом был тот самый Шагал, от которого торкнуло. И не только потому, что холст его не был, как почудилось ей, подлинником, но ещё из-за того, что было в этом некое безумство, непостижимая игра, лёгкое сумасшествие. И именно по той причине, что так не бывает в жизни, ни в чьей. Нет и не может быть у природы такого леденцового цвета. Не имеется и всех этих необъяснимых пташьих лёгкостей, и перевитых рук-канатов, и перевёрнутых наоборот голов, и зелёных козликов по заднему плану с синими лицами маленьких печальных человечков.
Дальше — больше, но и ещё загадочней. Лентулов, Малевич, Кандинский, Машков, Фальк, Лисицкий, другие, так недостижимо отдалённые от неё, Евы Ивановой, своими представлениями о знаемом ею мире, о подлинном и изобретённом чужим воображением полёте сознания и ума, о виденье других миров, параллельных её вполне земной поверхности, какие не видны глазу, но которые она, пускай от чрева матери хромая, всем сердцем желала бы ощутить.
Потом уже, преодолев первый накат неизвестного, принялась за искусствоведа Алабина, какого насоветовали. Там разное было и про всякое, но сразу же забрало. Слов умных, как у Сарафьянова, было куда меньше, но зато сам подход, запал его, автора этого, явно приглашающего к обсуждению и даже незлому спору, привлёк внимание и долго потом не отпускал. Особенно понравилось, как написал этот Лев про того же Шагала в работе своей, что получила она в дар, отдельно напечатанной тут и там. О сентиментализме художника, о нежности его и его же разуме, о дани художественной традиции и о случаях позволительного отхода от неё. О любви, порой застящей глаза и мешающей творить, о ненависти, способствующей рождению истинных шедевров.
Просто чудо как интересно было читать, и в то же время всё, совершенно всё было понятным. Будто шла поначалу сквозь сплошную туманность, но уже вскоре стало подыматься солнце, и оно принялось медленно выжигать её, выпаривать собою, отталкивать от себя. И сделалось вдруг чисто и бездымно, и слабый ветер повеял, разгоняя остатки неверия её в полный свет и ясную сквозную видимость.
А потом и про Малевича нашла у него же, где он ровно так же в пику остальным своё излагал, личное, сильно, видно, наболевшее. Там же, на маленькой впечатке, впервые всмотрелась она в квадрат этот причудливый. Раньше слыхала, конечно, но вот видеть не довелось. А тут усмотрела, правда пока лишь как репродукцию; но вот только как искусство, если откровенно, не приняла, не достучалась сердцем, не отозвалась в ней как надо эта чёрно-белая квадратина при прямых углах и полной неизвестности замысла. Впрочем, знала уже: нужно читать, искать объяснений, выведывать изначальное. Но это стало и единственным, что не бралось головой, да и то лишь поначалу. Остальное, почти без исключений, шло уже куда как кудрявей.
Весь «Бубновый валет» приняла сразу, полностью — можно сказать, оптом. И, уже начитавшись досыта всякого, сама же сообразила, в чём тут дело. То было некой гремучей смесью Сезанна, фовизма и элементов раннего кубизма, если ей, конечно, правильно удалось ухватить суть прочитанного, если чутьё не подвело её в этой смело сделанной ею же оценке.