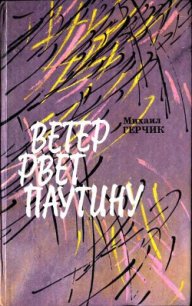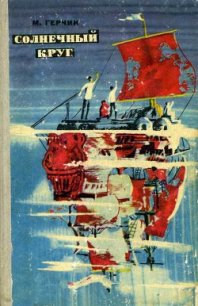Отдаешь навсегда - Герчик Михаил Наумович (книги без регистрации полные версии .txt) 📗
— Слушай, — говорю я, — а что, если я ее… Лейтенант нервно теребит вторую перчатку.
— Еще чего! На вверенном мне участке никаких хулиганских выходок нет и не будет.
Мы все трое весело смеемся.
— Как вас зовут? — спрашивает Лида. — А то мы все «лейтенант», «лейтенант»…
— Сергей Антонович, — говорит участковый и засовывает в планшетку домовую книгу. — Можно просто Сергеем.
— Так что ж нам все-таки делать, Сергей? Искать другую квартиру?
— А что от этого изменится? — отвечает он. — Двадцать четыре метра вы не найдете, даже восемнадцать, чтоб перепрописаться. У вас один выход: «ели вы ему жена по жизни — оформляйте развод, зарегистрируйтесь. Жену — к мужу или мужа к жене всегда пропишут.
Лида отворачивается и барабанит пальцами по подоконнику.
— Когда ж она сейчас будет всем этим заниматься? — примирительно говорю я. — У нас защита дипломов, госэкзамены на носу.
— Так я ж вас в шею не гоню, — улыбается лейтенант с сознанием исполненного долга, и служебного и человеческого. — Я по. начальству так и отвечу: мол, оформляют люди свои отношения, все хорошо, но им время нужно, потому как студенты: дипломы, госэкзамены… И заявительнице сообщу, что на жалобу ее прореагировал — силой-то она вас отсюда не выкинет. А писать перестанет. Только и вы ни себя, ни меня не подводите, кончайте с этим делом.
Сергей надевает фуражку, натягивает на руки ослепительно белые перчатки — на правой полоска уже просохла, но перчатка смялась, он смотрит на нее с явным сожалением, и козыряет нам.
— Будьте здоровы!
— До свидания, — отвечает Лида.
— Будь здоров, друг, — говорю я. — Ты меня прости, что я тебе нахамил. Нервы…
— Ничего, — улыбается лейтенант, — свои люди, помиримся.
Он уходит. Лида стоит у окна, у нее чуть приметно вздрагивают плечи.
— Я завтра же пойду в суд, — наконец говорит она не знакомым, севшим голосом. — Ты ведь ничего плохого не думаешь, Саша?! Просто я представляю, как это все будет выглядеть, и мне делается немножко тошно. Но я с этим справлюсь. — Она подходит и погружает пальцы в мои волосы. — Я с этим справлюсь, Саша, и тогда больше никто не будет лезть в нашу жизнь. Правда?
— Правда, — не совсем уверенно отвечаю я. — Но, может, действительно отложить это на лето? Сейчас и без дополнительной нервотрепки забот хватает.
— Нет. Как сказал Сергей? С этим нужно кончать… Тут дело не в прописке, не в штампах, тут все гораздо глубже.
Я недоуменно пожимаю плечами и снова берусь за книгу.
— Слушай:
Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна,
Это она, это она.
70
…И снится мне, что важные и чопорные, как пинская шляхта, мы с Лидой идем по вечернему городу. Ярко полыхают огни реклам над крышами домов, бесшумно проносятся автомобили, но людей почему-то не видно. Ни одного человека. Пусто, хоть шаром покати. Мы маршируем, как солдаты на параде, оттягивая носки и размахивая руками, — когда они у меня выросли, длиннющие, ниже колен, волосатые, как у обезьяны, и, наверно, такие же сильные руки?! Асфальт тротуара вгибается под нашими шагами, и геологические пласты обнажаются перед нами, словно слоеный пирог. И вот уже нет асфальта, и каменистая тропинка, пустынная, как заброшенное кладбище, круто уводит нас в глубь земли, в эры и эпохи с красивыми латинскими названиями, которые я зазубривал в детстве, а сейчас не могу вспомнить. Хоть убей, не могу вспомнить, а они крутятся у меня на самом кончике языка, круглые и сладкие, как конфетки-драже, и словно дразнятся: а вот и не вспомнишь, а вот и не вспомнишь…
Сорвавшись с высокого утеса и сложив бородавчатые крылья, пикирует на нас чудовищная птица, похожая на допотопного птеродактиля, каким его рисуют в учебниках зоологии. Но у этого птеродактиля пасть набита острыми золотыми зубами и смешной нос торчит разваренной картофелиной. Я прикрываю Лиду собой, и птеродактиль проносится в сантиметре от моего лица, сухо клацнув зубами, — я невольно отшатываюсь и поднимаю увесистый камень: а ну, попробуй еще разок! Но птица садится на обожженную молнией верхушку дуба, протирает носовым платочком с кружевной оборочкой квадратные очки, потом аккуратно сморкается и говорит зычным голосом нашего преподавателя древнегреческой литературы: «А не будете ли вы любезны, Сашенька, объяснить мне, благодаря чему Пенелопа убедилась, что чужестранец, выдающий себя за Одиссея, действительно Одиссей?» И Лида шепчет мне из-за плеча что-то о брачном ложе, которое нельзя перенести в другую комнату, потому что оно устроено на огромном пне спиленного дерева, о кольцах и луке Телемаха, но я сам отлично знаю все эти фокусы; преподаватель хотел, чтобы мы читали произведения древних, а не статьи о них в учебнике, и на экзаменах вечно задавал каверзные вопросы, на которые вовек не ответишь, если не прочел ту же «Илиаду» или «Одиссею» от корки до корки; но он задавал эти каверзные вопросы из года в год, всегда одни и те же, и студенты передавали их вместе с ответами первокурсникам, как эстафетную палочку, и немного у нас нашлось чудаков, прочитавших от корки до корки тысячи благозвучных, но нудноватых гекзаметров, а экзамен все сдали. Я уже сдал экзамен и ничего не буду отвечать тебе, вещая птица-птеродактиль с полной пастью золотых зубов, попробуй-ка еще раз спикировать на нас, и я угощу тебя камнем: видишь, сколько острых камней у нас под ногами, далеко ходить не надо…
Я подхватываю Лиду на руки: она изрежет на этих камнях свои белые туфли, а до стипендии — далеко, а до первой зарплаты — еще дальше, не босой же ей ходить; то ли дело мои башмаки, мне их делают по спецзаказу на протезной фабрике веселые сапожники — мои друзья, они шьют такие башмаки, что им сам черт не страшен, не то, что эти камни; я подхватываю ее на руки, и она доверчиво уткнулась теплым носом мне в шею, и мне щекотно от ее дыхания. Быстрее, быстрее туда, где встает солнце! Но почему оно такое красное сегодня, красное, как налитый кровью бычий глаз? И что там впереди: столбы, колючая проволока, вышки… Я вижу Двойру за колючей проволокой, облепленную детьми, страшную, растрепанную Двойру, и Данилу вижу я, и Генку Шаповалова, и свою маму… Это концлагерь. Зачем их загнали сюда фашисты?! Сейчас они и нас схватят и бросят туда, за колючую проволоку, а потом расстреляют из пулеметов в Титовских рвах. И негде укрыться, негде спрятаться — голая каменистая пустыня лежит вокруг, попробуй убежать от овчарок…
Я хочу отступить назад, но что-то мешает мне, и вдруг я замечаю, что мои ноги приросли к земле. Они пустили корни, толстые и узловатые, как жгуты, и эти корни с мягким шорохом ввинчиваются в раскаленный песок, и деревенеет тело мое, покрываясь золотистой шелушащейся корой и выбрасывая далеко в стороны сильные корявые ветви. Где-то наверху, в этих ветвях, как в гамаке, лежит Лида. А может, ее уже нету? Может, ее унесла птица-птеродактиль, а я и не заметил?
Часовые с любопытством поглядывают на меня, не спуская с поводков овчарок; наверно, не могут понять, откуда здесь взялось это дерево? Потом один из них подходит и принимается деловито обрубать топориком мои ветви. Он тюкает и тюкает, и ветви падают на землю, и я задыхаюсь от пронизывающей, нестерпимой боли. А надо мной, легкие и прохладные, плывут облака…
…Лида трясет меня за плечо, и в рассветных сумерках тускло мерцают ее встревоженные глаза.
— Что сдобой, Саша? Тебе плохо? Ты так кричал… Я облизываю сухие, шершавые губы.
— Ничего, Лидок, ничего особенного. Какой-то глупый сон приснился, больше ничего. Ты спи, еще рано.