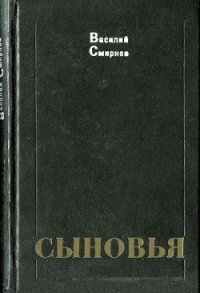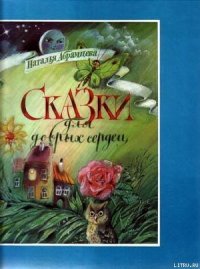Открытие мира (Весь роман в одной книге) (СИ) - Смирнов Василий Александрович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
Но пока они, трое подсоблялыциков революции, не смели нынче напрашиваться ехать в уезд и в волость устанавливать Советскую власть. Что ж, скоро и им найдутся делишки по ихнему росту и способностям. Один из подсоблял уже заметно хромал и скрючил левую (или правую?) руку, став Оводом. Два других читаря этой чудесной книжечки были его верными боевыми сотоварищами…
Григорий Евгеньевич просил и его взять в город на подмогу. Уж кому-кому, а ему и Татьяне Петровне больно знаком и страсть насолел инспектор училищ, нынешний уездный комиссар.
— Низложить! — грянули два могучих, ухарских голоса. К ним немедля присоединился третий: — Низложить!
За столом посмеялись одобрительно. И Шуркина мамка, убирая молча посуду со стола, улыбнулась, зажглась, слава богу, своим забытым голубым сиянием, хотя и не купала Машутки, та беспросыпно спала в зыбке. Мамка грустно-ласково взглянула на Шурку и Яшку, на дядю Родю, и он посмотрел на нее одинаково. А Шурка вскинулся на обоих беспечально-светло и невольно чему-то порадовался.
Решено было учителя в город не брать: школа должна работать как всегда, лучше, чем всегда.
Разошлись поздно. Дядя Родя пошел с Яшкой ночевать, в усадьбу, к себе в каморку. Просилась и Тонюшка, плакала, но Шуркина мамка не позволила, не пустила баловницу.
Утром, подобрав забытую Яшкой школьную сумку, Шурка забежал в усадьбу, отнес приготовленный мамкой завтрак. Дядя Родя, пока ему закладывали в телегу кривого мерина, проводил ребят до церкви.
Они зашли на кладбище, отыскали могилку тети Клавдии, Шуркиного бати с Францем. Нашли и могилу дяденьки Прохора. Постояли возле каждой, посмотрели, помолчали.
На могилке Яшкиной матери посажена маленькая березка. И тем, что она была маленькая, в крапинах по белой коре, как в веснушках, березка походила на тетю Клавдию. Шурка постеснялся сказать об этом вслух. На батиной и Франца высокой могиле был вкопан могучесосновый, не успевший еще потемнеть, в трещинках и подтеках смолы крест. Сверху, по краям креста, углом, как крыша, прилажены две дощечки с резьбой.
— Узнаю столяра, его работа, — сказал дядя Родя, доставая кисет, повертел и сунул обратно в карман шинели. На кладбище курить не полагается, нехорошо.
А могилка дяденьки Прохора была и не могилка — бугорок, заросший травой и кустиками земляники. Побитая морозом, волглая трава лежала, как скошенная, буросиреневая. Земляничник рыжел и топорщился упрямыми листьями. На будущее лето он обязательно закраснеет ягодами…
Дядя Родя взял Шурку и Яшку за руки, и они повернули обратно, за ограду.
Не все шло складно в тот день.
Совсем плохо получилось у Яшкиного отца: он вернулся из волости ни с чем. Председатель земельного комитета — бывший старшина, дегтярник и смолокур Мишка Стрельцов наотрез отказался созывать волостной сход. Пришла телеграмма губернского комиссара Дюшена, разосланная уездом по всем волостям: Советскую власть не признавать, распоряжениям ее не подчиняться, власть эта обманная, ее в самой скорости прогонят, законное Временное правительство будет восстановлено.
Осипа Тюкина с пастухом Евсеем и Никитой Аладьи-ным выпустили из острога. Они не дождались своих освободителей, задержавшихся в городе, прикатили пешедралом, до того им хотелось поскорей очутиться под родной крышей. Поревев на радостях, жены схватились за дрова и воду, стращая мытьем-пареньем в печах, не дожидаясь субботы. А мужьям ничего другого и не требовалось.
Почесываясь, они обедали, чертыхались, прославляли питерскую долгожданную революцию и торопили своих баб с ихним обещанием учинить мытье-паренье. Топить печи, однако, не потребовалось. Устин Павлыч прислал Марфу-работницу сказать, что у него давно готова банька для пострадавших за народ и свободу.
Смешно, весело было смотреть потом, как недавние узники выползали из бани, распаренные до багровой синевы, начесанные гребнями, умиротворенные, в белье и кинутых на плечи полушубках, в валенках с калошами.
Они гуськом топали гумном и шоссейкой, и ребята, провожая их по домам, дружно и складно, совсем как Татьяна Петровна, пели заученный стишок:
— Сижу за решеткой в темнице сырой…
Горев с Крайновым и солдатами с железнодорожного моста вернулись из города поздно. Совет в полном составе ждал их в Колькиной избе. Было тесно и душно. Народ набежал спозаранку, и не только депутатский, любопытных набилось достаточно, полная изба и сени, и под окнами торчали, как весной, когда Совет заседал впервые и все было в диковинку. Сейчас все знали о Петрограде и декретах, дядя Родя громко зачитал их дважды. Хлопали так, что стекла в окнах дрожали, и тетка Люба просила пожалеть ее, не вводить в разорение, где теперь стекол возьмешь, а сама хлопала не меньше других. Вести из волости, губернскую телеграмму встретили матом. И никто не постыдил, не оговорил, даже мамки, дядя Родя стучал кулаком по столу лишь для порядка, для прилику.
Чего же еще торчать, жечь керосин? Устин Павлыч другой раз и не расщедрится больше. Ребятам не досталось места даже на лежанке. Правда, для десятерых и лежанка с печью, пожалуй, были бы маловаты. Налетели ученики и ученицы, как в школу, со всех улиц и переулков села: и Катька, и Андрейка Сибиряк, и Анка Солина, даже Олег Двухголовый с Тихонями явился. Пришлось классу тереться в сенях, в толкотне, как в большую перемену в школьном коридоре. Из сеней, где курили и ругались несогласные с новой властью (откуда такие взялись? Поди ж ты, взялись, и не Фомичевы, не Тихонов, не Шестипалый, другие) и согласные, свои и чужие мужики и бабы, из этого гама не много услышишь. Но как дружно-весело поздравляли с возвращением домой с войны Афанасия Сергеевича, и глухни разберут. Долетело и как уговаривали добрые мужики Володькину мамку не плакать, шутили, что с радости и помереть можно, а другие мамки сердились на мужиков и тоже поревели-поплакали за бабье счастье Володькиной матери. Солина Надежда, молодуха, все спрашивала со слезами, когда же она повстречает своего штрафника.
Ушастая орава поймала из сеней и самое для них дорогое и забавное, посмешней недавнего шествия из бани.
Бегемота в инспекторской фуражке с крутым козырьком, этого ненавистно-знакомого ребятне уездного комиссара, Афанасий Сергеевич, как он рассказывал, не застал на служебном посту (начальство изволило завтракать), сочинил наспех записочку с предложением сдать власть и поспешил с солдатами в острог. Когда они вернулись, уездный комиссар не пожелал с ними разговаривать, возвратил через курьера записку. В ней красными чернилами были исправлены грамматические ошибки. (Эх, дяденька Афанасий, не было у тебя поблизости грамотеев-писарей, постеснялись напроситься, а надо бы, надо!) Поставлена размашисто двойка («Бегемот, единицу тебе самому за поведение, единицу с минусом!»), и резолюция через весь лист наискось: «Научитесь грамотно писать… и мыслить. Без ошибок. Тогда и берите власть».
Горев отстранил курьера от дверей, вошел в кабинет инспектора-комиссара, сидевшего в шинели и фуражке. Поблагодарил за науку, обещался непременно и скоро научиться писать без ошибок. А мыслить, думать…
— Всю жизнь голову ломаем, гражданин, не знаю, как вас по фамилии… Вот и додумались: взяли власть в свои руки. Извольте сдать полномочия. Временное правительство сидит в Петропавловской крепости, сам отправлял их туда. Не уступите власти, и вас сейчас отведем в тюрьму, благо она недалече, сразу за городом.
— Хо-хо! Уступил? — наперебой спрашивали, смеясь, депутаты и недепутаты. — А здорово тебя поддел с грамотой жирный дьявол!..
— Евгеньич, записывай меня, в первый класс! — орал Пашкин родитель, держась за живот. — Ах, собака, как он тебя укусил, Сергеич! И ты стерпел? В морду бы ему, в морду!
— Погоди, дай узнать наиважнеющее: уступил, нет?
— Уступил, конечно, — ответил Горев без смеха, ворочаясь, должно быть, за столом. Кожаная черная тужурка от движения загремела.
Послышалось? Показалось? Ей-богу, железом стучало и гремело в избе!.. Ну, скрипела куртка, какая разница. Всем ребятам в сенях захотелось надеть такую громкую одежину и пошуметь, поскрипеть железной кожей.