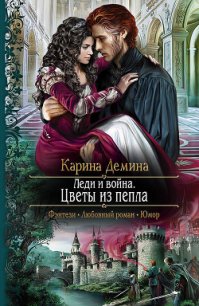Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака - Демина Карина (прочитать книгу .txt) 📗
— Моровая дева, — подсказал Гавриил и вновь ногу почесал.
Мики, как показалось, усмехнулся.
— И ваши родители там жили?
— Пока не умерли.
— Логично. — Вторую половину галеты панна Гурова сунула себе за щеку, жевала она сосредоточенно, и, судя по смачному хрусту, ее нельзя было отнести к тем старушкам, которые собственные зубы сменили на фарфоровые. — Жили-жили, а потом умерли… мой супруг тоже скончался…
— Соболезную…
— …пятнадцать лет тому. Редкостного сволочизма был человек… после него я собак и завела. Милейшие создания. А вы вот в Познаньск решили податься… с целью или так, путешествие совершаете? Помнится, прежде молодые люди все больше по Эуропе путешествовали-с… Венеция, Рим… Париж… Вы бывали в Париже, Гавриил?
— Нет, — вынужден был признаться он. — Только в Подкузьминках…
— Подкузьминки, — со странным выражением произнесла панна Гурова. — Подкузьминки — это совсем не то… хотя, конечно, и в Подкузьминках есть своя прелесть… вот, помнится…
Что именно ей вспомнилось, Гавриил так и не узнал, поскольку дверь распахнулась и в столовой появился мужчина весьма и весьма своеобразного вида.
Он был невероятно высок и худ до того, что казался истощенным. Крупная голова его, почти лишенная волос — реденький пух Гавриил по здравом размышлении решил волосами не считать, — каким-то чудом держалась на очень тонкой шее. Шею эту украшал желтый шелковый платок, который являлся единственным ярким пятном в обличье господина, поелику костюм его был черен, как и рубашка и ботинки.
На сухопаром, костистом лице застыло выражение неясной тоски, и взгляд, которым господин окинул столовую, задержался на Гаврииле.
— Знакомьтесь, — панна Гурова произнесла это громким шепотом, — наша местная знаменитость… пан Иолант Зусек.
— Тот самый? — Сердце Гавриила пропустило удар.
— Тот самый, — ответил уже сам пан Зусек, благосклонно кивнув новичку. — Вижу, вы читали мою книгу…
— Читал…
— И в мое время люди читали всякую чушь, — в голосе панны Гуровой появилось раздражение, — а читать надо классику…
И Мики тявкнул, должно быть соглашаясь.
— Гавриил. — Гавриил поспешно вскочил и руку протянул, которую пан Зусек пожал осторожно, притом выражение тоски сменилось иным — несказанной муки.
— Он у нас терпеть не может прикосновений, — пояснила панна Гурова. — И собак.
Шпицы зарычали.
— Прекратите, — шикнул пан Зусек, и псы действительно смолкли. — Видите ли, юноша, любое прикосновение к человеку — в высшей степени интимный жест…
Он взмахнул рукой, и шпицы расступились.
— Он означает высшую степень доверия… а вы ведь осознаете, что нет у меня причин доверять малознакомому человеку.
Гавриил был вынужден согласиться, что у пана Зусека и вправду нет ни одной причины доверять.
— Вот видите… но я безусловно рад, что вас заинтересовал мой скромный труд…
— И вправду скромный, — фыркнула панна Гурова, отпуская Мики.
Однако и он присмирел, а быть может, костлявые щиколотки пана Зусека не представлялись ему хоть сколь бы привлекательной добычей.
— Не обращайте внимания. Панна Гурова любит позлословить. Но в душе она одинокая несчастная женщина…
Панна Гурова молча поднялась, и шпицы тотчас встали.
— Уверяю вас, я совершенно счастлива…
Она поправила шарф-хомут и, подхватив зонт, удалилась.
— Обиделась, — заметил Гавриил.
— Ничего страшного. — Пан Зусек махнул рукой, жест получился вялым, сонным. — К вечеру отойдет. А то и раньше… но держите с ней ухо востро.
— Почему?
— Любопытна…
Хмурая девица, служившая при доме и кухаркой, и горничной, и официанткой, подала обед, на который пан Зусек посмотрел мрачно.
— Опять он экономит.
— Кто?
— Хозяин наш. Редкостный скупердяй… — Он ковырнул кашу, которая была ароматна и свежа.
Гавриил вот сахарком ее посыпал, правда, сахару в сахарнице было на самом донышке, и теперь Гавриил слегка смущался, поскольку ежели и пану Зусеку вздумается пшенку подсластить, то выйдет неудобно. Но тот лишь скривился и миску отодвинул.
— Мы договаривались, что на обед должно быть мясо. Пшенка хороша для старух, а мужчина без мяса — это… — Он воткнул ложку в кашу так, будто бы именно она была виновата в том, что появилась ныне перед паном Зусеком. — Это не мужчина…
— А мне нравится.
Гавриил ложку облизал.
— Мне вот… мама всегда кашу готовила.
— Расскажите о ней. — Пан Зусек вдруг наклонился, и весьма резко, заставив Гавриила отпрянуть.
Впрочем, пахло от него не зверем и не духами, а… терпкий резкий аромат, который, пожалуй, перебьет и тот, и другой запах.
— 3-зачем?
Пан Зусек воздел ложку, с которой отвалился желтый ком каши, и плюхнулся аккурат на скатерочку.
— В ней я зрю исток всех ваших бед.
— Каких? — осведомился Гавриил, на всякий случай отодвигаясь от собеседника, столь прозорливого. И еще кукиш скрутил, естественно, под столом, потому как крутить кукиши в лицо людям — дурной тон.
Пан Зусек, высунув розовый и чересчур уж длинный язык, ложку лизнул.
— Я зрю, — повторил он, прищурившись. В складочках темных, будто бы подкрашенных век его глаза терялись, казались махонькими и какими-то бесцветными.
Неприятными.
— Я зрю, — это слово, надо полагать, пану Зусеку было очень по вкусу, оттого и произносил он его медленно, со вкусом, — что вы обладаете преогромной чувствительностью. А еще стеснительностью во всем, что касается женского общества. Скажите правду…
Гавриил к правде готов не был, а потому головой мотнул.
— Вам стыдно признаться. — Облизанная ложка блестела, и, похоже, пшенная каша не была столь уж неприятна пану Зусеку, как он то говорил. — Это вполне естественно.
Ноздри его дрогнули.
Он ли… нехорошо получится… умный человек — и волкодлак. А в том, что пан Зусек умен, Гавриил нисколько не сомневался: вон целую книгу написал!
— Она с рождения внушала, что мужчине стыдно выказывать свою слабость… — Он зачерпнул каши и отправил в рот, проглотил, не жуя, и острый кадык, выдававшийся на узкой шее, некрасиво дернулся. — Она подавляла вас… была авторитарна и нетерпима…
— Вы были знакомы? — Гавриил похолодел.
— Они все таковы. Истинная суть женщины — хищница. И только мужчина, всецело уверенный в себе, способен управиться с нею.
Пан Зусек похлопал Гавриила по руке. Ладонь его была горячей, сухой.
…а у волкодлаков температура тела выше, чем у обыкновенного человека. Ненамного, но все же…
— И оттого молодые люди, сами не понимая причин, робеют в присутствии женщин. Испытывают порой преотвратительные ощущения. Сухость во рту. Внезапную немоту. Слабость во всех членах. — Пан Зусек перечислял, не забывая глотать кашу, а Гавриил смотрел на широкий его рот, на розовый язык и ровные белые зубы. — Они списывают это на урожденную скромность, тогда как дело в ином!
— В чем?
Пан Зусек оскалился:
— В голосе инстинкта! И его надо слушать… женщины опасны… они способны свести с ума, лишить воли… обобрать до нитки… сколько несчастных каждый день лезут в петлю… — Он сделал паузу, позволяя Гавриилу обдумать услышанное, что тот и сделал, ответив:
— Не знаю.
— Чего не знаете?
— Сколько несчастных каждый день лезут в петлю. Это полицейские сводки глядеть надобно.
Пан Зусек коротко хохотнул:
— А вы шутник.
Смех у него оказался неприятный, тоненький.
— И это хорошо… очень хорошо… — Пан Зусек поднялся. — Приходите…
На стол легла красная карточка.
— Уверяю вас, будет интересно. А вам, как соседу, и скидку сделаю… полный курс обойдется всего-то в двадцать злотней. И я научу тебя стать собой.
— Спасибо, — вежливо поблагодарил Гавриил, хотя не совсем понял, зачем ему учиться быть собой, если он и так есть?
А каша за этими разговорами остыла.
Панночка Розалия Бергуш-Понятовска обреталась на Ковыляйской улочке, известной тем, что некогда, лет этак триста тому, та всецело принадлежала королевской пассии Алиции Ковыляйской. Панна Алиция прослыла особою вольных нравов и большой придури, каковая и воплотилась в стремлении сделать сию улочку идеальной. И, подчиняясь приказу, старинные дома были снесены, а на месте их выстроены новые, по особому проекту самой панны… поговаривали, что имелись у нее планы не только на улочку, но и на весь квартал белошвеек, а то и на Познаньск. Однако милосердные боги не допустили произвола, наградив бледную даму чахоткой, а уж тогдашнее лечение, с пиявками и кровопусканиями, сократило и без того короткий срок ее жизни.