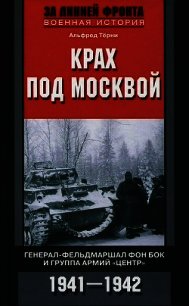Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг. - Яров Сергей (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Частота обращений и категоричность просьб зависела, прежде всего, от того, где находился человек. Не раз, встречая в стационарах, в фабрично-заводских цехах руководителей, редко упускали возможность что-то попросить у них. Имело значение и состояние человека, степень его истощенности – в этом случае он пренебрегал всеми приличиями. Решимость проявлялась и тогда, когда нарушались права и привилегии: требовать их соблюдения считалось естественным и не зазорным [700]. Даже те, кто не имели льгот, отмечали заслуги своих родственников, ожидая лучшего отношения к себе. В. Кулябко, просивший начальника эвакопункта посадить его в крытую машину, говорил ему: «Еду к сыну – военному, орденоносцу» [701].
Письма о помощи, направленные официальным учреждениям, нередко оформлялись в виде кратких заявлений, которые содержали деловитое изложение просьбы. Риторических прикрас здесь не требовалось. Достаточно только было перечислить те условия, в которых находились горожане. Приведем тексты некоторых из них, сохранившихся среди документов Приморского райкома ВЛКСМ. Вот письмо Т. И. Ивановой: «Прошу вашего содействия оказать помощь дровами, так как я нахожусь в холодной комнате с двумя детьми. В комнате нет ни одной рамы после бомбежки. Муж находился на казарменном положении, ввиду истощения умер. Прошу не отказать. Заранее вам благодарна» [702].
Другое заявление написано 13-летней В. Шустарович, видимо под диктовку матери: «Просим помочь нам устроиться в детдом, так как отец наш на фронте, защищает город Ленинград, а мы остались четверо детей… 8 января в наш дом попал снаряд. Нас переселили в другую комнату. Здесь тоже скоро выбило стекла. Мать заболела цингой, ходить не может, Татьяна и Леонора [сестры В. Шустарович. – С. Я.]тоже. Стекол нет, дров напилить некому. Сидим в холоде голодные, так как варить не на чем. Просим выслать комиссию из молодежи для определения матери и нас куда-нибудь, как детей красноармейца» [703].
Заявления эти похожи друг на друга, но все из них оформлялись бюрократическим языком. Близость их содержания объяснялась, конечно, не правилами ритуала, а тем, что беды людей являлись во многом общими. В целом они сжаты, предельно конкретны, лишены хаотичности и многословия. Возможно, их составляли во время обходов квартир комсомольскими бытовыми отрядами по советам последних: в них, хотя и неявно, чувствуется некий «канцелярский» остов. Это не личные письма с их разнообразием интонаций, намеков, извинений и оправданий. Главный аргумент здесь – ссылка на родственников-красноармейцев, довод более действенный, чем рассказ о нестерпимости блокадного жития. В заявлениях нет и того, что, несомненно, хотели бы получить семьи блокадников, но чего не могла им дать «комиссия из молодежи»: лекарства, витамины, молоко для детей. Просьбы высказываются как-то скупо, словно заранее осведомлены об ограниченных возможностях того, кто дает, словно кто-то стоит рядом и подсказывает, какими должны быть формулировки. Попросить о большем, надеяться на щедрость они могли лишь, пользуясь поддержкой «влиятельных» лиц.
«Старик сидел у меня… и плакал, рассказывая про жену. Ей 66 лет, она больная и из последних сил бьющаяся, чтобы доставить ему какие-то удобства и заботу. А питаются они в последнее время жасминовыми листьями комнатных цветов. Даже паек свой они умудряются не получить, старые и беспомощные», – записывала И. Д. Зеленская в дневнике 25 ноября 1941 г. [704]Рассказывали ей о своих горестях не случайно: она была заведующей столовой и, возможно, рассчитывали на лучшее отношение к себе, на лишнюю тарелку «бескарточного» супа или каши. О слезах, которыми пытались разжалобить администраторов, блокадники писали не раз – порой это оказывалось более убедительным, чем прочие аргументы [705]. Везде заметно стремление сделать просьбу о помощи менее официальной. Отчасти это обуславливалось положением просителя, который не всегда знал бюрократические ритуалы. Но надеялись и на то, что именно так, напрямую обращаясь к собеседнику, к его милосердию, и не укладывая свои жалобы в прокрустово ложе канцелярских формул, можно быстрее встретить поддержку. Архитектор А. С. Никольский, придя в Академию, уточнил, что «обратился не с просьбой, а за помощью» [706], четким разделением значения слов дав понять, что он рассматривает это как личное одолжение. Тот же стиль личного обращения заметен и в просьбе инженера И. Л. Андреева, обращенной к заместителю директора завода им. А. Марти Г. И. Никифорову: «Голубчик мой, помоги. Второй день ничего не кушал. Жена в больнице. Приготовить нечего. Пришли хоть дуранды. Возьми меня отсюда на завод. Здесь я погибну» [707]. Еще короче оказалась записка начальника мастерской завода им. Молотова председателю культпропотдела: «Турков, умираю, спаси меня» [708].
Потеряла «карточки» школьная преподавательница М. М. Толкачева. «Милая Валентина Федоровна», – так начинается ее письмо директору школы. Это даже не прямая просьба, она лишь надеется, что пожалеют ее, узнав, как ей живется. И слова находятся особые, интимные, щемящие: «Что делать, ведь впереди почти месяц, а мы и 125 граммов не будем иметь. Верная смерть…Сестра от истощения лежит, и я еле передвигаюсь… Простите, если в чем виновата… Искренне любящая Вас М. Толкачева» [709]. Никаких канцелярских штампов, никаких ссылок на законы, инструкции, привилегии. В архиве одной из фабрик сохранилось несколько таких, лишенных налета официозности, обращений. Каждый подкрепляет их чем-то, что, как ему кажется, быстрее разжалобит администрацию. Один из просителей, коммунист, сообщил попутно, что сдал свой партбилет в партийный комитет, «чтобы не попал в руки врагу» – вероятно, рассчитывая, что это будет по достоинству оценено. Другой коммунист просил поместить в стационар жену, передав справку врача о том, что она нуждается в усиленном питании.
4
Обращались за помощью и дети, и подростки. Оставшись без поддержки родителей или потеряв их, они пытались выжить, как могли, как умели – а умели они немного [710]. Г. С. Егорову встретилась сидящая на крыльце двухлетняя девочка с куклой, которую предлагала прохожим: «Это моя кукла, но я хочу продать ее. Мама моя больна, я ничего не ела, хочу кушать, продам куклу за 100 гр. хлеба» [711]. Если кукла любимая, значит, она дорогая, а за дешевую вещь ничего не дадут – голодная девочка это знала.
Обратиться хоть к кому-нибудь, не разбирая, чужой это или родной, и не зная правил и обычаев, плакать и просить, чтобы их пожалели – что еще оставалось брошенным голодным детям? Директор ГИПХ П. П. Трофимов увидел одного из них на улице. Люди безразлично проходили мимо, и замерзавшая на лютом морозе девочка даже «не рыдала, а плакала однотонным плачем» [712]. Он подошел к ней, начал расспрашивать: «Почти не прерывая плача, жалобно повизгивая, сказала – я есть хочу».
Прочие истории не менее драматичны. Вот одна из них. К директору детдома А. Н.
Мироновой обратился 11-летний мальчик, сосед ее сестры: «Плакал и рассказал, что „больше не хочу ходить на Смоленское кладбище, я боюсь, а меня посылают"». Так и осталось неясным, с кем он жил, кто его заставлял идти за пропитанием; известно лишь, что среди них были женщины. «Занимались…» – здесь А. Н. Миронова оборвала запись [713].
700
Волкова А.Первый бытовой отряд. С. 181.
701
Кулябко В.Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 264.
702
Цит. по: Худякова Н.За жизнь ленинградцев. С. 88.
703
Там же.
704
Зеленская И. Д.Дневник. 25 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 36–36 об.
705
См. воспоминания одной из блокадниц: «Пошла [мать. – С. Я.]в райком партии… Сидела там инспектор… Вот пришла и сказала, что у меня дочка потеряла карточки: „Я не знаю, как нам жить. Никого у меня больше нет. Ни родных, ни знакомых. Нас никто не поддержит“. Та, значит, так растерялась: „Да… не знаю“… А мама плакала… А потом пришла и тихонечко говорит: „Успокойся, мы тебе выдадим карточки“» (Память о блокаде. С. 120); воспоминания Р. Малковой: «Мне карточки не давали… Приду в жакт, а там то управдома нет, то не дает карточек. Так я заплачу, он пожалеет и даст мне карточку на другой месяц» (Махов Ф.«Блок-ада» Риты Малковой. С. 225).
706
Никольский А. С.Дневник. 2 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 27.
707
Выстояли и победили. С. 15.
708
Стенограмма сообщения Туркова И. В.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. On. 1. Д. 128. Л. 8.
709
ЛюбоваМ. Объект № 136 (Записки директора школы) // Дети города-героя. С. 60.
710
См. информационную сводку инструкторского отдела ГК ВКП(б), направленную А. А. Жданову 4 января 1942 г.: «Трое детей 4-х, 6-ти и 8-летнего возраста… после смерти матери (отец в армии) пять дней скитались по городу. В тяжелом положении, после смерти родителей, оказались малолетние дети Вера, Нина и Анфиса Разины. Долгое время они бродили по городу в поисках пищи, совершенно не имея денег» (Ленинград в осаде. С. 414).
711
Стенограмма сообщения Егорова Г. С.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. On. 1. Д. 41. Л. 5 об.
712
Стенограмма сообщения Трофимова П. П.: Там же. Д. 126. Л. 20 об.
713
Миронова А. Н.Дневник. 4 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 13 об.