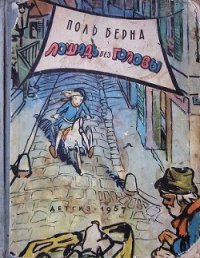Женское сердце - Бурже Поль (книги бесплатно полные версии txt) 📗
— Надо подумать. Если я подойду к нему во время антракта и нанесу ему с глазу на глаз без свидетелей одно из тех полуоскорблений, которое не может вынести человек с его характером, — разве только он повинуется каким-нибудь высшим соображениям, — я, наконец, все узнаю… Если он действительно любовник г-жи де Тильер, если меня вытолкали за дверь по его милости, то он ни за что не захочет, чтобы имя этой женщины было произнесено между нами и из-за нас, и сделает все, чтобы избежать поединка. Если же ничего между ними не было, то он остановит меня на первом же слове и тогда или я ему, или он мне нанесет удар шпагой… Никогда нельзя знать… В эту минуту даже дуэль будет мне забавой, и этот риск вполне стоит шанса получить доказательство… Ибо если он начнет уклоняться от дуэли, это послужит ему уликой, и притом неопровержимой.
Едва лишь безумный план успел охватить эту пылкую душу, как выполнение его стало неизбежным. Бывают минуты, — и Казаль переживал именно одну из таких минут, — когда любовь воскрешает в нас дикаря, у которого замысел тотчас же приводится в исполнение и в котором бесстрастное спокойствие перемешивается с скоропреходящей яростью. Если нервы Раймонда и были напряжены так, как будто он собирался драться на ножах, то никто из товарищей, при встрече с ним пожимавших ему руку, не заметил его нервозности. Когда упал занавес, Казаль стал у входа в зал и, дождавшись де Пуаяна, обратился к нему в самой вежливой форме:
— Не сделаете ли вы мне честь уделить мне минуту разговора?.. Не желаете ли здесь? Он указал на угол кулуара в стороне от толпившейся в проходе публики. — Нам здесь не помешают…
— Я вас слушаю, — ответил граф, видимо, удивленный таким вступлением. Он сразу почувствовал, что его собеседник хотел поговорить о Жюльетте, но потом подумал: «Невозможно. Во-первых, он ничего не знает, да и, кроме того, для этого он слишком порядочный человек». Между тем другой начал говорить вполголоса и таким тоном, как будто два светских человека равнодушно поверяют друг другу маленькие клубные или салонные историйки.
— Это очень простая вещь, и я не буду вас долго задерживать; я только хотел спросить вас, имеете ли вы какое-нибудь основание так пристально меня рассматривать во время действия и с таким упорством, которое я нахожу неуместным.
— Между нами какое-то недоразумение, — возразил де Пуаян. Он побледнел и делал над собой видимое усилие, чтобы соблюдать в этом странном разговоре самую спокойную вежливость. — Еще пять минут тому назад я совершенно не знал о вашем присутствии в зале.
— Сожалею, что должен возразить вам, — продолжал Раймонд, — но повторяю вам, что вы несколько раз пристально смотрели на меня и так как это случается уже не в первый раз, то я хотел иметь спокойную совесть, предупредив вас, что в случае надобности я готов запретить вам так на меня смотреть.
По мере того, как он с необыкновенно дерзкой развязностью произносил эти слова, он мог по лицу графа следить за происходившей в этом благородном человеке борьбой оскорбленной гордости с непоколебимым решением не поднимать никаких историй. Благодаря способности быстро соображать, которая пробуждается у нас в таких случаях, де Пуаян тотчас же угадал истинную причину выходки Раймонда. «Он знает, что г-жа де Тильер отказала ему из-за меня. Человек, способный на такую невероятную выходку, способен также назвать имя женщины, из-за которой мы будем драться… Какой бы ни было ценой, надо этого избежать…» И у него хватило мужества сдержать себя и снова ответить:
— Еще раз я утверждаю, что между нами недоразумение. Я никогда не имел повода смотреть на вас так, чтобы это могло быть для вас неприятным, и у меня нет намерения начать это делать и после нашего разговора, продолжать который нет никакого основания, и я прошу вас его прекратить…
— В самом деле, — сказал Казаль, — я не вижу больше надобности разговаривать с трусом…
Эта оскорбительная фраза сорвалась у него с языка помимо его желания. Она решительно шла вразрез с его намерением только разузнать о том, в каких отношениях с Жюльеттой находился де Пуаян. Но при виде смущения графа, с которым этот последний настолько справлялся, что сохранял полное самообладание, при виде его щепетильности и непременного желания избежать ссоры, Казаль, как и в разговоре с г-жою де Кандаль, увидел в этом основательность своих подозрений. Этого оказалось достаточным для того, чтобы ярость его ревности исторгла у него непоправимое слово, перед которым уважающий себя человек, — будь он любовником женщины или нет, — не отступает. Густая краска залила бледное лицо графа.
— Милостливый государь, я все время отвечал вам так потому, что предполагал с вашей стороны невольную ошибку… Теперь я вижу, что вы ищете со мной ссоры и хотите ее последствий. Они будут… Я не знаю, почему вы привязываетесь к тому, кто никогда вами не занимался. Но я никому на свете не позволю так говорить со мной, как вы только что говорили, и буду иметь честь прислать вам двух моих друзей, но при одном условии, — прибавил он повелительно, — чтобы вы у ваших друзей, так же как и я у моих, взяли слово хранить эту историю в тайне…
— Разумеется, — сказал Казаль и как бы в подтверждение искренности своего обещания подозвал проходившего мимо Мозе и спросил его:
— Послушайте, Альфред. Не помните вы точно, когда здесь играли пьесу Фейлье, в которой Бресон был так изумителен? «Акробат», кажется, тот же сюжет, что и в известном шедевре «Маленькая Маркиза», только более романический. Мы об этом сейчас спорили с де Пуаяном. Он утверждает, что это было в 1872 году, а я говорю, что в 1873-м.
Глава X
Перед дуэлью
На другой день, после так неожиданно разыгравшейся в кулуарах «Theatre-Francais» сцены, резко врезывавшейся своим трагизмом в чисто сантиментальный роман Жюльетты, молодая женщина ходила по аллее, огибавшей ее садик. Было около двух часов дня. Подолгу вдыхала она благоухающий воздух, насыщенный сладким ароматом розоватых кистей акации; смотрела на листья, зеленевшие в лучах летнего солнца, на густую клумбу распустившихся алых роз, поднимавшихся на своих штамбах, на трепетавший по стене плющ, на полет птички, то опускавшейся на газон, то улетавшей на ближайшие ветки. С самого своего разговора с Казалем она не переставала страдать, а невозможность скрыть от де Пуаяна тоску, овладевавшую ею с каждым днем все глубже, только увеличивала ее муки. Да и как вполне обмануть его беспокойную прозорливость? Он был так нежен, что сделать это, по-видимому, было легко; но нежность, доведенная до известной степени напряжения, становится так болезненно подозрительной, что равняется самому проницательному недоверию. Разве, после того как возобновились их свидания, когда она пришла, на первое же свидание, не стало ясно де Пуаяну, что она сделала это не для себя, а для него: из жалости, а не по любви! К тому же, есть ли возможность подделываться под настоящую любовь, — этот огонь, охватывающий всего человека, этот восторг души, уносящий нас, как бы вне времени и пространства, благодаря одному лишь присутствию предмета нашего поклонения, — так душа наполняется им, до последнего предела возможного! Нет, нельзя разыгрывать комедию подобных восторгов сердца. Женщина сумеет смягчить свой голос; слова ее будут еще нежнее, чем звук этого голоса; нежным будет и взор ее. Она будет страстно желать убедить своего возлюбленного в том, что она счастлива, чтобы он был счастлив. Тщетный обман! Если он любит на самом деле, то волшебством своей горькой прозорливости скоро распознает, сколько усилий скрыто в взволнованном голосе, какая усталость таится во взоре и сколько жестокого в этих усилиях выразить притворную нежность. Увы! Может ли он жаловаться на обман, которым ему выказывают все же так много дружбы, за отсутствием более страстного чувства?… Вправе ли мы упрекать другого человека, что он чувствует не так, как бы мы хотели и как ему иногда самому кажется, что он чувствует. И молчишь от этого странного смущения и снова погружаешься, — как это сделал де Пуаян на следующий же день после свидания в Пасси, — в немой, безумный анализ малейших оттенков, причем какое-нибудь одно слово, движение, рассеянное выражение лица подтверждают ужасную, неотвязчивую мысль: «Меня не любят больше, а только жалеют…» У графа к этой мысли присоединялась еще другая, более ужасная, которую он тщетно силился отогнать от себя. Из новой беседы с д'Авансоном он узнал, что Казалю окончательно отказано от дома. Старый дипломат был в этом уверен: