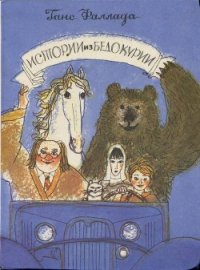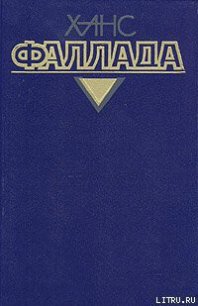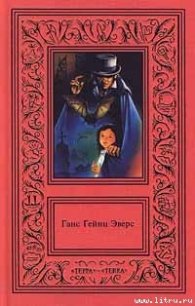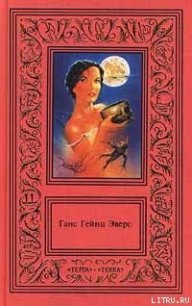Каждый умирает в одиночку - Фаллада Ганс (читать книги без сокращений .TXT) 📗
И тут же он вспоминает о попытке грабежа у фрау Розенталь. Так и есть, Боркхаузен засыпался и выдал его. И страх его все растет: тогда ночью он побожился, что не скажет, и теперь, если скажешь, так тот верзила эсэсовец возьмет тебя в оборот и задаст жару, только на этот раз, пожалуй, похуже! Надо молчать, а будешь молчать, полицейский в работу возьмет, у него живо заговоришь. И так пропадешь, и этак пропадешь. Ох, страх какой!
В прихожей четверо людей впиваются в него глазами, но он их не видит, он видит только полицейский мундир шуцмана, теперь он уверен, что боялся не зря, что и так и этак ему пропадать.
И страх придает Энно Клуге свойства, которых у него обычно нет — решительность, силу и быстроту. Он толкает шуцмана на остолбеневшего от удивления Шредера, который не ждал от этого заморыша подобной прыти, мчится мимо доктора и сестры, распахивает входную дверь, и вот он на лестнице…
Но вслед ему раздается свисток, — где ему тягаться с длинноногим молодым шуцманом. Тот догоняет его на нижних ступеньках и здоровым ударом валит наземь, так что у того в глазах темнеет. Когда же Энно приходит в себя, шуцман обращается к нему с любезной улыбкой: — Ну-ка, протяни лапку! Я тебе браслетку подарю. Теперь на прогулку вместе пойдем, а?
Стальные наручники защелкиваются, и вот он уже подымается по лестнице, на этот раз в сопровождении молчаливого мрачного Шредера и весело посмеивающегося шуцмана, для которого такой плюгавый бегун одно развлеченье.
Войдя наверх, они проходят в кабинет врача, мимо пациентов, которые собрались в прихожей, позабыв свою досаду на затянувшееся ожидание в приемной врача, потому что всякий арест возбуждает интерес, а этот человек, по словам медицинской сестры, политический, коммунист, таких людей не жалко, поделом им. Сестру сотрудник уголовного розыска тут же выставляет из кабинета, врачу же разрешается остаться, и тот слышит, как Шредер говорит: — Так, сынок, прежде всего, присядь-ка на стул и отдохни малость после того, как побегал. Тебя, я вижу, вконец загоняли! Вахмистр, снимите с господина наручники. Он больше не собирается убегать, верно?
— Нет, нет, — уверяет совсем обескураженный Энно Клуге, и слезы уже капают у него из глаз.
— Да я б тебе этого и не посоветовал. В следующий раз пиф-паф! А стрелять я, сынок, умею! — сотрудник Шредер упорно называет Клуге сынком, хотя тот лет на двадцать старше его. — Ну, не плачь! Не такие уж ты страшные дела натворил, верно?
— Ничего я не натворил! — сквозь слезы лепечет Энно Клуге. — Ровно ничего!
— Ну, конечно же, сынок! — поддакивает Шредер. — То-то ты и улепетываешь, как заяц, при одном виде полицейского мундира! Доктор, нет ли у вас тут чего под рукой, каких-нибудь капель, а то он, бедный, совсем раскис.
Теперь, когда доктор чувствует, что для него лично всякая опасность миновала, ему от всего сердца жаль этого никудышного человечка. Видно, неудачник, пасующий при первом затруднении. Доктору очень хочется впрыснуть ему морфий, самую незначительную дозу. Но он не решается, из-за сотрудника уголовного розыска. Лучше дать брому…
Но Энно Клуге, не дождавшись, пока порошок растворится в воде, говорит: — Ничего мне не надо. Ничего я не приму. Еще отравите. Лучше уж я во всем признаюсь…
— Вот и отлично! — говорит Шредер. — Я так и знал, что ты у меня умник! Ну, рассказывай…
И Энно Клуге утирает слезы и начинает рассказывать…
За минуту до этого он плакал самыми настоящими слезами, просто нервы не выдержали. Но думать даже самые настоящие слезы не мешают — в этом он убедился за свою многолетнюю практику в обхождении с женщинами. Словом, он все обдумал и пришел к тому выводу, что очень уж невероятно, чтоб его арестовали в приемной врача за грабеж. Если они его на самом деле выследили, то арестовали бы на улице или в подъезде, для этого им не требовалось манежить его два часа в приемной…
Нет, тут, конечно, нет ни малейшей связи с грабежом у фрау Розенталь. Верно, тут какая-то ошибка, и Энно чувствует, что здесь не обошлось без гадюки сестры.
Но все дело в том, что он дал тягу, и теперь ему никак не убедить полицейского, что во всем виноваты его слабые нервы, что он теряет всякое самообладание при виде полицейского мундира. Никогда тот ему не поверит. Значит, надо сознаться в чем-то, что звучало бы правдоподобно и допускало возможность проверки, и он даже знает, в чем. Правда, говорить об этом ему мало улыбается, хорошего это в дальнейшем не сулит, но если выбирать из двух зол, то такое признание все же меньшее зло.
Итак, раз уж ему предложено все рассказать, он вытирает слезы и, более или менее успокоившись, начинает рассказывать о своей работе на фабрике, о том, что он много болел, что начальство на него зло и грозится отправить его либо в концлагерь, либо в штрафную роту. Само собой разумеется, Энно Клуге ничего не рассказывает о своей нелюбви к работе, но он полагает, что сотрудник уголовного розыска это и сам смекнет.
И в этом он прав, тот отлично смекнул, что за тип Энно Клуге.
— И вот, как я вас увидел, господин комиссар, да еще и полицейский мундир господина вахмистра, — я ведь для того у доктора сидел, чтобы выпросить справку о болезни, — я и подумал: допрыгался, заберут тебя, голубчика, в концлагерь, тут я и дал тягу…
— Так-так-так, — говорит Шредер, — так-так-так! — Минутку он думает, затем продолжает: — Только сдается мне, сынок, сейчас ты не очень-то веришь, что мы здесь по этому делу.
— Пожалуй, что и так, — соглашается Клуге.
— А почему, сынок, не веришь?
— Да потому, что гораздо проще было взять меня на работе или по месту жительства.
— Значит, у тебя и местожительство есть, сынок?
— Ну, разумеется, господин комиссар. У меня жена на почте служит, законная жена. Два сына на фронте, один в Польше в эсэсовских частях. У меня и документы при себе, я вам все, что говорил, доказать могу, и где проживаю, и где работаю.
И Энно Клуге достает захватанный, потертый бумажник и начинает рыться в документах.
— Документы ты пока что спрячь, сынок, — отклоняет его намерение Шредер. — Успеется…
Он погружается в раздумье, и вокруг наступает тишина.
Врач, сидящий за письменным столом, начинает спешно писать. Может быть, представится возможность сунуть справку о болезни этому бедняге, которого все время трясет от новых страхов. Он жаловался на печень, ну, что ж, пусть будет печень. Времена сейчас такие, что надо помогать друг другу, если только есть к тому хоть малейшая возможность.
— Что вы, доктор, пишете? — спрашивает Шредер, внезапно пробуждаясь от раздумья.
— Историю болезни, — объясняет врач. — Я хочу использовать время, в приемной еще куча народа.
— Правильно, доктор, — говорит Шредер и встает. Решение принято. — Больше мы вас задерживать не будем. — История, рассказанная Энно Клуге, правдоподобна, по всей вероятности, это даже подлинная правда, но Шредер никак не может отделаться от ощущения, что за этой историей еще что-то кроется, арестованный чего-то не договаривает. — Ну, пойдем, сынок! Проводишь нас немножко? Нет, не до Алекса, только до нашего участка. Я охотно с тобой еще потолкую, сынок, мальчик ты бойкий, а задерживать дядю доктора дольше невежливо. — Затем он обращается к шуцману: — Наручников не надо, он и так пойдет, он у нас пай-мальчик, умник. Хейль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо!
Они уже у самой двери, сейчас уйдут. Но тут Шредер вдруг вытаскивает из кармана открытку, открытку, написанную Квангелем, подносит ее к самому лицу Энно Клуге и строго приказывает: — Ну-ка, сынок, прочти, что здесь написано! Но только быстро, без запинок, единым духом!
Он говорит это совсем на манер полицейских…
Но уже по одному тому, как Клуге берет открытку, как он таращит глаза с бессмысленным видом, как начинает читать по складам: «Немцы, не забывайте! Началось с присоединения Австрии. Затем последовали Судеты и Чехословакия. Нападения на Польшу, Бельгию, Голландию…» — уж по одному этому сотрудник уголовного розыска почти с уверенностью может сказать: этот человек никогда не держал в руках данной открытки, никогда не читал того, что в ней написано, уж не говоря о том, что он не мог ее написать — на это у него ума нехватит.