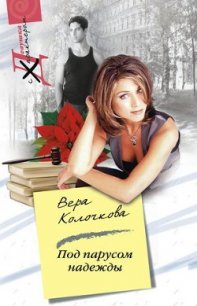В объятиях самки богомола - Колочкова Вера (читать книги без TXT, FB2) 📗
– Мам, но не у всех же так! Я даже представить себе не могу, чтобы Оля… Чтобы она так со своей мамой поступила.
– Всему свое время, моя дорогая. Погоди, материнская жертвенность Олиной мамы с годами закостенеет, войдет для Оли в константу. И я тебе больше скажу, я знаю, чем в конце концов такие отношения для матерей завершаются. Они завершаются в самом плохоньком доме старчества, куда дети-обезьянки благополучно сплавляют своих матерей.
– Это неправда, мам. Не надо так про Олю.
– Это правда, Марта. Горькая, но правда. Каждая мать должна изо всех сил сопротивляться зову жертвенности, который в ней заложен природой. Именно должна, понимаешь? Чтобы не сотворить из своего чада монстра. Чтобы чадо само научилось прокладывать себе путь, ни на кого не надеясь. Чтобы научилось вырабатывать уважение к себе и к собственному пути. А вершина этого пути – осознанная благодарность к своей матери, что вовремя ушла в сторону и не мешала. Вот и выходит, как ни крути, что я самая правильная мать во всех отношениях, и зря ты на меня обижаешься, поняла?
– Да, мам. Я поняла. Только как с любовью-то быть? Не с облизыванием, не с помощью, а с любовью? Я вот вижу, например, что Олю мама любит…
– А я тебя что, не люблю?
– Иногда мне кажется, что совсем не любишь. Что я тебе мешаю жить своей собственной жизнью.
– Ну что ж, давай поговорим и об этом. Или ты как сейчас хотела? Спровоцировать меня на словесные излияния в любви, что ли? Да, я тебя люблю. Ты моя дочь, я твоя мать, и этого вполне достаточно. По-моему, ты вполне уже взрослая, чтобы суметь отказаться от слюнявого сюсюканья, от «лапочки», «зайчика» и «золотой рыбоньки», ли как там я тебя еще называла?
– Еще солнышком называла и ласточкой.
– Фу, пошлость какая. Неужели ты всего этого от меня до сих пор ждешь?
– Да нет, мам. Я не то хотела сказать… Я и сама уже не знаю, что я тебе хочу сказать, что объяснить. Хотя иногда и правда хочется, чтобы ты назвала меня солнышком и чтобы с работы домой торопилась, чтобы меня обнять.
– Я так полагаю, что это Олина мама всегда с работы домой торопится, чтобы прижать к сердцу любимую доченьку?
– Ну, допустим. И что в этом плохого?
– А я тебе уже объяснила, что есть в этом плохого. Лучше бы Олина мама своей личной жизнью занялась, было бы больше пользы и ей самой, и Оле. А в материнской жертвенности, между прочим, сокрыты даже два преступления, если хочешь. Одно преступление – перед ребенком, а другое – перед самой собой. Чтобы потом, оглядываясь назад, не посыпать голову пеплом.
– Ну да. Ты посыпать голову пеплом не будешь, это уж точно. Ты свою жизнь скоро устроишь, наверное, ведь так? А я… До меня тебе дела нет!
– А у тебя-то самой, Марта? У тебя есть дело до самой себя? Что ты вообще о своей жизни думаешь? Или навсегда хочешь погрязнуть в своей инфантильности?
– Я вовсе не инфантильная, ты же знаешь!
– Да, знаю. И ценю в тебе твое стремление к самостоятельности. И не понимаю, почему ты этот разговор затеяла, заставила меня объяснять очевидные, в общем, вещи. Да, я не хочу быть жертвенной матерью, вернее, не позволяю себе этого. Ради твоего же блага не позволяю. Я хочу, чтобы ты умела выживать в любых условиях, даже тогда, когда совсем не будет никакого тыла, куда можно принести свои жалобы и слезы. Чтобы ты добывала себе все сама. Это как в притче про голодного, который сидит на берегу реки. Я тебе рассказывала эту притчу?
– Нет.
– Ну так послушай. Представь себе голодного человека на берегу реки. Мимо него проплывают рыбаки на лодках и дают ему рыбу из жалости. Он быстро съедает рыбу – и снова голоден. А один рыбак дал ему не рыбу, а удочку. Голодный возмутился: как же так? Вон, у тебя сколько рыбы в лодке, почему ты такой жестокий и жадный? А рыбак ему ответил: налови рыбу сам, и не будешь голодным. И обвинять никого не будешь в жадности и жестокости. Вот и я так же, моя дорогая, пытаюсь дать тебе в руки удочку. Чтобы ты сама. Да, я учу тебя выживать – и это дорогого стоит. Все, что могла дать, я тебе уже отдала. Ну, или почти отдала. Ты одета, обута не хуже других, ты школу вот-вот окончишь, в институт поступишь легко, я думаю. И в институте я тебя выучу, кормить-одевать буду. А дальше – сама. Больше мне тебе дать нечего. Домработницей для твоей семьи и гувернанткой для твоих детей я не буду. И больше еще скажу – насчет этой квартиры. Запомни, моя дорогая, это моя территория. Свою собственную территорию ты сама себе добывать будешь. Уж какими путями – не знаю, наверное, при помощи удочки, которую я тебе в руки даю. Ну, что так смотришь? Я что-то ужасное сейчас говорю, по-твоему?
– Я не знаю, мам, что сказать. Я даже представить себе не могу, чтобы Олина мама сказала своей дочке что-нибудь подобное…
– Да что ты ко мне привязалась с Олиной мамой! Знаю я распрекрасно эту Олину маму, в одной школе когда-то учились! Обыкновенная курица, как все курицы-бабы! Судя по твоим рассказам, считает свою жертвенность святой материнской любовью, то есть прокладывает себе путь в никуда. Тоже со временем станет и домработницей, и гувернанткой, и объектом для раздражения, и ненавистной обузой в старости.
– Не станет! Олина мама никогда для Оли такой не станет! Просто потому, что она любит Олю, а Оля любит ее!
– Хм… Выходит, что ты меня так и не услышала и ничего не поняла.
– Да все я поняла, мам! Только, прошу тебя, не трогай примером ни Олю, ни ее маму. Ты же не общаешься с ними, а потому не знаешь…
– Хватит того, что ты с ними достаточно плотно общаешься! А ты не думаешь, к примеру, что мне это обидно слышать, а? Олина мама такая, Олина мама сякая… А у тебя мать – хуже некуда! Если я такая плохая, так и шла бы к Оле, и жила бы с ними, плыла по тому же течению! Может, и тебя оближут по случаю!
– Да, и пошла бы! – упрямо ответила Марта, полоснув по лицу матери злыми глазами.
– Ну так иди! Чего сидишь? Иди! – так же зло ответила мать, вставая из-за стола.
– И пойду!
– Иди! Скатертью дорога! Сижу тут с тобой, очевидные вещи втолковываю, и все как об стену горох! Ничего ты не поняла, зря только старалась! Иди, упади в подол Олиной маме, поплачься о своей горькой судьбинушке!
Марта посидела за столом еще пару секунд, потом резко сорвалась с места, кинулась в прихожую, натянула поверх ночной сорочки плащ, сунула ноги в туфли, дрожащими пальцами покрутила собачку замка, пытаясь открыть дверь. Мать стояла в проеме кухни, смотрела на нее исподлобья. Когда за дочерью с шумом захлопнулась дверь, выключила на кухне свет, подошла к окну. Проследила взглядом, как она бежит по двору, запахивая на ходу полы плаща. На миг пробежала по ее лицу судорога раскаяния, но тут же ушла, сменившись горькой усмешкой – ничего, ничего, пусть… Тоже на пользу пойдет! Жизнь все расставит по своим местам, еще благодарна будет за якобы материнскую жестокость. Лучше удочка в руке у голодного, чем сытая чужая жалость. Пусть, пусть.
Дверь Марте открыла Наталья Петровна, отступила испуганно назад в прихожую:
– Марточка? Почему ты так поздно? Случилось что-нибудь, да?
– Нет, Наталья Петровна, просто… Можно я у вас переночую?
За спиной Натальи Петровны уже переступала босыми ногами Оля, моргала сонными глазами. Не дав матери ответить, проговорила быстро:
– Мы вдвоем ляжем, мам. Иди спать…
– Но как же? – не унималась Наталья Петровна. – Надо же выяснить, что случилось…
– Да ничего не случилось! – вяло махнула рукой Оля. – Опять, наверное, с мамой поссорилась.
– Девочка моя, Марточка, ну как же так? – обняла Марту за плечи Наталья Петровна, помогла ей снять плащ. – Не надо никогда на маму сердиться, что ты. Мама же плохого тебе не желает! А хочешь, давай чаю на кухне попьем?
– Мам, поздно уже! Тебе на работу вставать рано, – недовольно проговорила Оля, увлекая Марту в комнату.
– Ну так и что, подумаешь, на работу. Надо же девочку успокоить, надо же выслушать, ведь жалко же девочку… Марточка, ты не плачь, пожалуйста! Все устроится, вот увидишь! И с мамой завтра непременно помиришься, разве мама плохого тебе желает? Она ж любит тебя, ты ж ей доченька родная, всякое в жизни бывает…