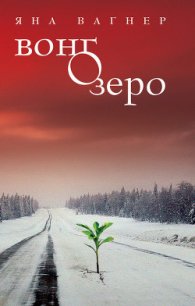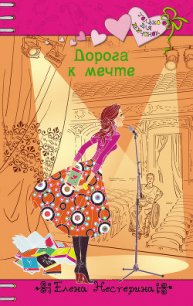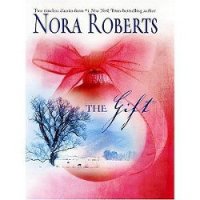Вонгозеро - Вагнер Яна (книги без сокращений .txt) 📗
Мы посмотрели в сторону окна — возле балконной двери, ведущей на веранду, на фоне ночного неба отчетливо темнела человеческая фигура.
Сережа сделал попытку подняться; я вцепилась в руку, в которой он сжимал кочергу, и зашептала:
— Подожди, не вставай, не надо, — и тут за стеклом послышался голос:
— Ну что вы там замерли, защитники Брестской крепости, я прекрасно вижу вас через стекло. Сережка, открывай!
Сережа со звоном уронил кочергу на пол и бросился к балконной двери; проснулся Мишка, сел на диване и тер глаза, диковато озираясь; дверь открылась, в гостиной запахло морозным воздухом и табаком, а стоявший за стеклом человек вошел внутрь и проговорил:
— Включите свет, партизаны, черт бы вас побрал.
— Привет, пап, — сказал Сережа, нашаривая выключатель на стене, и только тут я выдохнула, поднялась на ноги и подошла поближе.
Во время нашего знакомства три года тому назад — Сережа познакомил меня со своим отцом не сразу, а почти через полгода после того, как его бывшая жена наконец ослабила хватку, постразводные страсти немного утихли и наша жизнь постепенно стала входить в нормальную колею, — Сережин отец завоевал мое сердце прямо с порога небольшой квартирки в Чертанове, которую мы с Сережей сняли, чтобы жить вместе, — он с аппетитом оглядел меня с головы до ног, крепко и как-то совсем не по-отечески обнял и немедленно велел звать себя «папа Боря», хотя я так ни разу и не смогла себя заставить произнести это — вначале вообще избегая прямых обращений, а потом, спустя еще год или около того, остановившись на нейтральном «папа» — на «ты» я с ним так и не перешла. Мне с самого начала было очень легко с ним — легче, чем в компании Сережиных друзей, привыкших видеть его совсем с другой женщиной, с их подчеркнутыми, вежливыми паузами, которые они делали всякий раз, когда я говорила что-нибудь, как будто им нужно было время для того, чтобы вспомнить — кто я такая; я постоянно ловила себя на попытках понравиться им — почти любой ценой, это была какая-то детская, глупая конкуренция с женщиной, перед которой я чувствовала себя виноватой и ненавидела себя за это. «Папа Боря» бывал у нас нечасто — у них с Сережей была какая-то сложная история в прошлом, вероятно, еще в Сережином детстве, о которой они никогда не распространялись; мне всегда казалось, что Сережа одновременно гордится отцом и стыдится его, они редко созванивались, а виделись еще реже — его даже не было на нашей свадьбе. Я подозревала, все дело было в том, что у него не было приличного костюма — довольно давно он, неожиданно для всех, бросил карьеру университетского преподавателя, сдал свою небольшую московскую квартирку и уехал насовсем в деревню где-то под Рязанью, в которой жил с тех пор почти безвылазно в старом одноэтажном доме с печкой и туалетом на улице, потихоньку браконьерствовал и, по Сережиным словам, здорово пил с местными мужиками, среди которых завоевал себе непререкаемый авторитет.
Он стоял посреди освещенной теперь гостиной, щурясь от внезапного света, — на нем была видавшая виды старая Сережина охотничья куртка, а на ногах почему-то трогательные серые валенки без калош, вокруг которых на теплом полу уже начинала образовываться небольшая лужица. Сережа сделал было движение к нему навстречу, но они как-то неловко застыли в шаге друг от друга и так и не обнялись, а вместо этого оба обернулись ко мне — и тогда я встала между ними и обняла их обоих; сквозь густые, уютные запахи дыма и табака вдруг отчетливо потянуло спиртом, и я мысленно удивилась тому, как он ухитрился доехать до нас, — но потом мне пришло в голову, что навряд ли на дорогах сейчас кому-нибудь есть до этого дело. Я прижалась щекой к вытертому воротнику его охотничьей куртки и сказала:
— Как хорошо, что вы здесь. Есть хотите?
Через четверть часа на плите шипела яичница, и мы все — включая Мишку, который отчаянно таращил глаза, пытаясь не заснуть, сидели вокруг кухонного стола; часы показывали половину четвертого утра, и вся кухня уже пропахла чудовищными папиными сигаретами — он признавал только «Яву» и презрительно отказался от Сережиного «Кента». Пока готовилась еда, они с Сережей успели выпить «по одной», а когда я поставила перед ними дымящиеся тарелки и Сережа приготовился налить еще, папа Боря неожиданно накрыл рюмку своей большой ладонью с пожелтевшими прокуренными пальцами и сказал:
— Нет уж, хватит светской жизни, пожалуй. Я приехал вам сказать, дети, что вы идиоты. Какого черта вы тут сидите в этом своем стеклянном доме с этой своей яичницей и делаете вид, что все в порядке? У вас даже калитка не закрыта — и хотя, конечно, ваша смешная калитка, декоративный заборчик и вообще вся эта пародия на безопасность даже ребенка не остановят, я все-таки ожидал от вас большей сообразительности.
Тон у него был шутливый, но глаза не улыбались — я вдруг увидела, что его большая рука, в которой он держал очередную зажженную сигарету, дрожит от усталости и пепел падает прямо в тарелку с яичницей, лицо у него серое, а вокруг глаз — темные круги. В своем неопределенного уже цвета свитере с вытянутым воротом (наверняка тоже Сережином), толстых штанах и валенках, которые он и не подумал снимать, он выглядел посреди нашей светлой, элегантной кухни огромной чужеродной птицей, а мы втроем действительно сидели вокруг него, как перепуганные дети, и ловили каждое его слово.
— Я очень надеялся, что вас здесь уже не найду — я думал, вам хватило ума понять, что происходит, и вы давно уже заколотили свой кукольный домик и сбежали отсюда, — продолжил он, отхватив вилкой почти пол-яичницы и держа ее на весу. — Но, учитывая ваш всем известный бездумный идиотизм, я решил-таки в этом убедиться и, к сожалению, оказался прав.
Мы молчали — ответить нам было нечего. Папа с сожалением посмотрел на яичницу, дрожащую на вилке, положил ее обратно в тарелку и отодвинул тарелку в сторону; видно было, что он думает, как начать, и какая-то часть меня уже знала, что именно он сейчас скажет нам, и чтобы оттянуть этот момент, я сделала движение, чтобы встать и убрать со стола, но папа Боря жестом остановил меня и заговорил:
— Подожди, Аня, это недолго. Город закрыли две недели назад, — он сидел теперь, сложив руки перед собой и опустив голову, — а с момента, как появились первые заболевшие, прошло чуть больше двух месяцев, если, конечно, нам не врут. Я не знаю, сколько человек должно было умереть прежде, чем они решили закрыть город, но судя по тому, что они уже отключили нам телефоны, все происходит быстрее, чем они рассчитывали, — он поднял голову и посмотрел на нас, — ну же, дети, сделайте лица немного поумнее, вы что, никогда не слышали, что такое математическая модель эпидемии?
— Я помню, пап, — сказал вдруг Сережа.
— А что такое модель эпидемии? — тут же спросил Мишка. Глаза у него были круглые.
— Это очень старая штука, Мишка, — сказал папа Боря, но смотрел при этом на меня, — мы их рассчитывали еще в семидесятые годы для института Гамалеи. Сейчас я, конечно, давно уже вышел в тираж, но, полагаю, общие принципы не изменились — точные науки не пропьешь, дети, это как ездить на велосипеде. Если коротко, то все зависит от болезни — как именно она передается, насколько заразна, длинный ли у нее инкубационный период и каков процент смертности. А еще очень важно, как именно власти с этой болезнью борются. Мы просчитали тогда семнадцать инфекций — от чумы до банального гриппа, я не врач, я — математик и про этот новый вирус знаю очень мало. Не буду мучить вас дифференциальными уравнениями, но судя по скорости, с которой все развивается, карантин им особенно не помог — вместо того чтобы выздоравливать, люди мрут, и мрут стремительно — может, они не так этот вирус лечат, может, им нечем его лечить, а может, они просто еще не нашли способа — как бы там ни было, я не думаю, что город уже погиб, но он погибнет, и очень скоро, и когда все это начнется, на нашем с вами месте я постарался бы быть от него подальше.