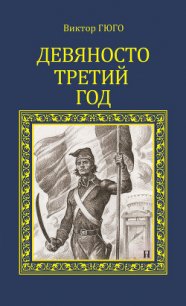Что я видел. Эссе и памфлеты - Гюго Виктор (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt, .fb2) 📗
Собрания, возможно, вновь вернутся к этому.
Можно ли быть оратором с заранее написанной речью? Это странный вопрос. Все речи Демосфена и Цицерона были написаны заранее. «Эта речь пахнет маслом», говорил завистливый критик Демосфена22. Руайе-Коляр, этот очаровательный педант, этот великий узкий ум, был оратором; он произносил только заранее написанные речи; он приходил и клал на трибуну свою тетрадь. Три четверти торжественных речей Мирабо были написаны, и некоторые из них даже не им самим, за что мы его порицаем; он произносил их с трибуны как свои, такие речи, какими были речи Талейрана, Малуэ, какого-то швейцарца, чье имя не сохранилось. Дантон часто писал свои речи; в его доме нашли целые страницы, исписанные его рукой. Что касается Робеспьера, девять из десяти торжественных речей были написаны. Ночи напролет перед своим появлением на трибуне он, сидя за своим маленьким еловым столиком, с открытым перед ним томиком Расина, медленно, тщательно писал то, что должен был сказать.
Импровизация имеет свои преимущества, она захватывает аудиторию; она захватывает также оратора, и в этом ее отрицательная сторона. Она толкает его на злоупотребление полемикой, этим кулачным боем трибуны. Говорящий это, сохраняя за собой право на предварительные размышления, произносил в Национальном собрании лишь импровизированные речи. Отсюда резкие слова, отсюда ошибки. Он винит себя в этом.
IX
Эти люди из бывшего большинства23 причинили столько зла, сколько смогли. Хотели ли они этого? Нет; они обманывали, но они обманывались сами, в этом их смягчающие обстоятельства. Они полагали, что знают правду, и они лгали, служа истине. Их сострадание к обществу было безжалостным по отношению к народу. Отсюда столько слепо жестоких законов и постановлений. Эти люди, представляющие собой скорее шумную толпу, чем сенат, достаточно невинные по сути, беспорядочно кричали на своих скамьях, повинуясь пружинам, приводящим их в действие, освистывали или аплодировали на нитке, за которую тянул кукловод, подвергали проскрипциям по необходимости, это марионетки, всегда готовые укусить. Во главе стояли лучшие среди них, то есть худшие. Бывший либерал, примкнувший к поработителям, требовал, чтобы не было больше других газет, за исключением le Moniteur, что заставило его соседа, епископа Паризи, сказать: «Опять!» Этот – академик, хорошо говорящий, но плохо пишущий, в черной одежде, белом галстуке, грубых башмаках, с красной лентой, может быть председателем, прокурором, всем, кем хотите, он мог бы быть Цицероном, если бы не был Ги Патеном24, прежде ловкий адвокат, ныне последний из подлецов. Этот – человек плаща и великий судья империи в тридцать лет, заметный сейчас благодаря своей серой шляпе и нанковым панталонам, молодой старик, начавший как Ламуаньон и закончивший как Браммел25. Это бывший герой, искалеченный, храбрый солдат, ставший робким клерикалом, генерал перед Абд аль-Кадиром, капрал за Ноноттом и Патуйе26, такой храбрый, но старающийся быть хвастуном, смехотворный там, где должен был бы вызывать восхищение, сумевший превратить свое по-настоящему доброе военное имя в фальшивое огородное пугало, лев, обрезавший свою гриву и сделавший из нее парик. Это фальшивый оратор, умеющий лишь грубо нападать, и унаследовавший от Демосфена только камни, которые были у него во рту. Этот человек, произнесший отвратительное слово «Внутренняя римская экспедиция», крайне тщеславный, говорящий в нос, чтобы казаться элегантным, употребляющий жаргон, с моноклем в глазу, нахально красноречивый, слегка простонародный, путающий замок Рамбуйе27 с рынком, иезуит, погрязший в демагогии, ненавидящий царя в Польше и желающий кнута в Париже28, толкающий народ в церковь и на скотобойню, пастух в виде палача. Это также обидчик и не менее ревностный слуга Рима, безобидный интриган, с улыбкой бешенства на мрачном и спокойном лице. Это… Но я останавливаюсь. К чему эти перечисления? Et ccetera, [72] говорит история. Все эти маски уже неизвестны. Оставим в покое забвение, взяв то, что есть в нем. Позволим ночи опуститься на ночных людей. Вечерний ветер уносит прочь тени, позволим ему сделать это. Какое нам дело до силуэта, исчезающего за горизонтом?
Оставим это.
Да, будем снисходительны. Если и были у многих из нас какие-то испытания, более или менее длительная буря, брызги пены на подводных камнях, немного падения, немного изгнания, что за важность, если все заканчивается хорошо для тебя, Франция, для тебя, народ! Какая разница, что увеличиваются страдания некоторых, если уменьшаются страдания всех! Изгнание сурово, клевета зла, жизнь вдали от отечества подобна мрачной бессоннице, ну так что же, если человечество растет и освобождается! Какое значение имеют наши горести, если вопросы решаются, проблемы упрощаются, решения созревают, если сквозь просвет лжи и иллюзий все более и более ясно можно разглядеть истину! Какое значение имеют девятнадцать лет холодной зимы за границей, тяжелая разлука, если перед лицом врага очаровательный Париж становится величественным, если величие великой нации возрастает благодаря несчастьям, если искалеченная Франция дает жизнь всему миру! Не все ли равно, если у этой калеки вновь отрастают ногти и наступает время восстановления! Что за важность, если в ближайшем, уже различимом будущем каждая народность обретет свой естественный облик: Россия до Индии, Германия до Дуная, Италия до Альп, Франция до Рейна, Испания получит Гибралтар, а Куба – Кубу; необходимые поправки для бесконечной будущей дружбы народов! Это все, чего мы хотим. И мы это получим.
У каждой цивилизации есть критические этапы, которые нужно преодолеть, не все ли равно, что мы устали, если вокруг бушует ураган! И что из того, что мы были несчастны, если это ради блага, если определенно род людской переходит от декабря к апрелю, если зима деспотизма и войн закончена, если не идет больше снег суеверий и предрассудков и если после исчезновения всех туч феодализма, монархии, империи, тирании, битв и резни мы видим наконец, как на горизонте занимается этот ослепительный флореаль народов29, мир во всем мире!
X
Все, что мы говорим здесь, сказано лишь с одной целью: утвердить будущее, насколько это возможно.
Предвидеть – почти то же самое, что блуждать в поисках правды; слишком отдаленная истина вызывает улыбку.
Утверждение, что у яйца есть крылья, кажется абсурдным, тем не менее это так.
Мыслитель старается размышлять с пользой.
Есть бесплодные размышления, и это мечты, и есть размышления плодотворные, которые должны созреть. Настоящий мыслитель вынашивает свои идеи.
И таким образом в нужное время созревают различные формы прогресса, предназначенные воплотиться в великих человеческих возможностях, в реальности. В жизни.
Есть ли у прогресса предел?
Нет.
Не надо называть смерть бесполезной. Человек будет совершенен только после жизни.
Всегда приближаться и никогда не достигать – таков закон. Цивилизация – это приближение.
Все формы прогресса – это революция.
В революции наши дела, мысли, слова. Она в наших устах, сердцах, душе.
Революция – это новое дыхание человечества.
Революция была, есть и будет.
Отсюда необходимость и невозможность сделать из нее историю.
Почему?
Потому что необходимо рассказывать вчера и невозможно рассказать завтра.
Из нее невозможно сделать выводы и ее подготовить. Это лишь то, что мы стараемся сделать.
Будем упорно добиваться безграничной революции, это никогда не будет бесполезным.
XI
Революция прельщает все сильные умы: такие, как Ламартин, приближаются к ней, чтобы ее изобразить, как Мишле – чтобы объяснить, как Кине – чтобы судить, и как Луи Блан – чтобы сделать ее плодотворной30.