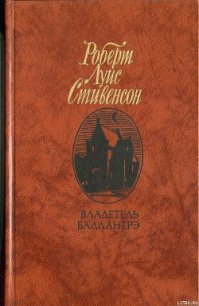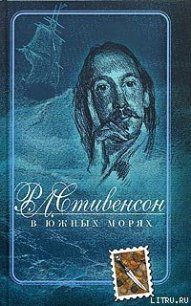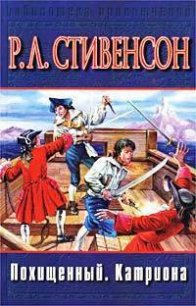Мастер Баллантрэ - Стивенсон Роберт Льюис (версия книг .txt) 📗
В общем, я был согласен с миссис Генри и находил, что она правильно рассуждает, хотя все-таки досадовал на нее за то, что она сожгла драгоценные документы, и, несмотря на то, что она старалась оправдаться передо мной, в душе осуждал ее за этот поступок.
— Не будем говорить больше об этом, — сказал я наконец. — Я могу сказать только одно, что чрезвычайно сожалею, что отдал вам документы в руки, и что вы распорядились с ними так бесцеремонно. Что касается до того, что я сказал, что не желаю более служить у вас, так это я сказал сгоряча, и я не имею намерения покидать ваше семейство, если только вы ничего не имеете против того, чтобы я остался. Я привык к вашему семейству и люблю и семейство, и поместье Деррисдир, как будто я член вашей семьи и Деррисдир моя родина.
Я должен отдать миссис Генри справедливость, что она ничуть не рассердилась на меня за мою горячность и говорила со мной в этот день так же любезно, как всегда. Мы остались такими же друзьями, как и прежде.
В тот же день я с радостью заметил, что мистеру Генри лучше, и спустя несколько дней после этого он пришел в себя и начал понемногу сознавать, что вокруг него происходит. Миссис Генри стояла как раз у его ног, когда к нему вернулось сознание, но он не заметил ее и, приподнявшись немного на постели, снова опустился на подушки и затем крепко заснул. Это был не сон, а какая-то летаргия, в которую он погрузился вследствие слабости после высокой температуры, которая столько времени не спадала. С этого дня он хотя и медленно, но заметно поправлялся. У него появился аппетит, и силы начали восстанавливаться. Спустя несколько недель он начал полнеть, а меньше чем через месяц после того дня, как он пришел в сознание, его уже начали вывозить в кресле на террасу.
Но по мере того, как мистер Генри поправлялся, меня и миссис Генри начинала мучить забота, насколько происшедшее до его болезни событие занимало его мысли, думал ли он о нем или же оно изгладилось из его памяти? Каждый день мы со страхом ждали, что у него проявятся симптомы, указывающие на то, что он мучится воспоминанием о случившемся, но день за днем проходил, и мы ничего не могли заметить, что бы указывало на то, что он нравственно страдает.
Мистер Генри становился все крепче и крепче; он теперь по целым часам разговаривал с нами; отец его часто приходил к нему в комнату и просиживал у него некоторое время, а затем уходил, но никто — ни лорд, ни он не упоминали о трагедии, происшедшей до его болезни. Вопрос о том, забыл ли мистер Генри о том, что произошло в ночь на 28 февраля, или же он отлично помнит об этом, но молчит, этот вопрос мучил нас и днем, и ночью.
Мы с беспокойством слушали, что он говорил, и следили за тем, что он делал, и я должен сказать, что во многих отношениях мой патрон сильно переменился за свою болезнь. Он в своем обращении сделался гораздо ласковее, чем он был прежде, но вместе с тем выказывал некоторое упрямство, и, главное, в самых пустых вещах, которого он до болезни никогда не проявлял. Прежде он никогда не придирался к пустякам, и если настаивал на чем-нибудь серьезном, так только тогда, когда от этого зависело что-нибудь важное; теперь же он волновался из-за всякой безделицы и не давал никому покоя раньше, чем достигал того, чего он желал достигнуть. До его болезни в то время, когда он терпел испытания, единственным другом и поверенным его был я, с женой он был в дурных отношениях, стало быть, кроме меня, у него не было ни одного близкого человека. После его болезни это все изменилось: теперь он кроме жены, казалось, ровно никого не любил, и все его мысли были заняты исключительно ею. Он, наподобие ребенка, ищущего защиты у своей матери, жаловался ей на все, что его тревожило, обращался к ней со всевозможными просьбами и порою в продолжение целого дня не давал ей ни минуты отдыха, самым бесцеремонным образом требуя от нее исполнения самых пустых желаний. И к чести миссис Генри будь сказано, что она никогда не заставляла его напрасно просить ее о чем-нибудь. Обращался он с ней действительно очень ласково и не знал, как ей выказать свою любовь, и миссис Генри это, по-видимому, ценила и, по всей вероятности, раскаивалась в том, что прежде относилась к мужу так холодно и нелюбезно, потому что я несколько раз, в то время как мистер Генри поправлялся, замечал, как она выходила из его комнаты растроганная до слез.
По отношению же ко мне мистер Генри до такой степени резко изменился, что я положительно не знал, чему это приписать; он как будто забыл, каким я был для него другом, и эта резкая перемена без всякой причины показалась мне настолько неестественной и странной, что я начал даже сомневаться в нормальности его умственных способностей.
Это сомнение, вкравшееся в мою душу, долго мучило меня, я в продолжение всех дальнейших лет совместной жизни с моим патроном не мог отвязаться от него, и наши отношения очень страдали от этого.
Когда мистер Генри настолько окреп, что мог уже заниматься делами, я опять-таки заметил в нем перемену, которой прежде не было. Нельзя сказать, чтобы он не понимал, что он делает или что он пишет, нет, напротив, сознание у него было вполне ясное, но только он не питал ни к чему ни малейшего интереса, очень быстро уставал, принимался зевать и относился ко всему совершенно безразлично. В особенности меня поражало его безучастное отношение к материальному благосостоянию, доходившее даже до небрежности. Правда, что так как нам не приходилось высылать теперь деньги мастеру Баллантрэ, то нам незачем было дрожать над каждым пенни, и нам не приходилось расходовать особенно большие суммы, да, наконец, если бы нам и представился расход, который мог бы принести нам ущерб, то я удержал бы мистера Генри от бессмысленной траты денег; но, во всяком случае, за ходом материальных дел он вовсе не следил, и мне приходилось самому решать все материальные вопросы. Что-нибудь такое, что противоречило бы здравому смыслу, мистер Генри не делал, этого сказать нельзя, и впечатления человека невменяемого он также не производил, но он безусловно во многом изменился, и у него появились странности, которых у него прежде не было.
В своей манере держать себя он также изменился; движения его были теперь порывисты, тогда как прежде они были хотя и угловаты, но спокойны; затем он стал необыкновенно говорлив, тогда как прежде он был довольно молчалив, но глупостей или бессмысленностей он не говорил. Душа его жаждала счастья, но он не мог в достаточной мере владеть собой, и по мере того, как какое-нибудь радостное событие приводило его в безмерный восторг, какая-нибудь незначительная неприятность повергала его в полное уныние. Благодаря восторженному настроению, в котором он находился порою, он чувствовал себя в течение нескольких лет счастливым, но даже в том восторженном состоянии, в котором он находился, и в его поведении в течение этих лет бывало иногда что-то неестественное. Очень часто люди мучают сами себя тем, что они думают о том, чего изменить нельзя; мистер Генри же, как мне кажется, во избежание того, чтобы мысль о том, чего ни изменить, ни исправить нельзя, не мучила его, старался всеми силами заглушить ее, и это желание заглушить нравственную боль и своего рода трусость, взглянуть на то, что случилось, более критическим и равнодушным взглядом, была главной причиной неправильных, а порою даже весьма безрассудных поступков, которые он совершал. Он вследствие этого также необыкновенно быстро раздражался, и в одну из таких минут, когда раздражение его дошло до особенно сильной степени, он дошел до того, что побил грума Мануса. Подобный поступок с его стороны, о котором в прежнее время никогда не могло быть и речи, настолько поразил всех, что об этом говорили еще долго после того, как факт этот совершился. По случаю его раздражительности и благодаря его нетерпению, ему пришлось однажды потерять двести фунтов, половину которых я смело мог бы спасти, если бы он дал мне время действовать и имел терпение ждать. Но он предпочел потерять всю эту огромную сумму денег, чем терпеливо выжидать, пока я устрою дело.