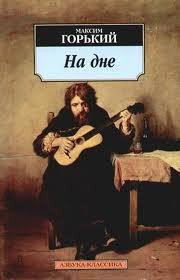В людях - Горький Максим (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.
- Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, получше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.
И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрел в ней неутомимую ябедницу.
В лавке становилось всё труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начетчиков,- говорили они всё об одном и том же. Только Петр Васильев по-прежнему привлекал меня своим знанием темной человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.
Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах, он, благожелательно выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.
Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать:
- Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-кось мне записки-то эти, а?
Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а потом стал сердито шептаться с приказчиком.
Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:
- Ты какие-то записки делаешь - так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются только сыщики.
Я неосторожно спросил:
- А как же Ситанов? Он тоже записывает.
- Тоже? Дурак длинный...
Долго помолчав, он необычно мягко предложил:
- Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже - я тебе полтину дам! Только так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...
Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова больше, побежал впереди меня на коротких ножках.
Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.
- Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя Дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!
Я был убежден в этом и решил уйти, как только бабушка вернется в город,- она всю зиму жила в Балах-не, приглашенная кем-то учить девиц плетению кружев. Дед снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шел в тяжелой енотовой шубе, важно и медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он задумчиво проговорил:
- А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!
Отодвинул меня с дороги и всё так же важно и медленно пошел дальше.
Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболевал старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красильным мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдет ему новое место. На ее же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастерового, который бил ее и выгонял из дома.
Встречаясь с бабушкой, я всё более сознательно восхищался ее душою, но - я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды ей.
- Терпеть надо, Олеша!
Это - всё, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске - обо всем, что меня возмущало.
Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня - я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.
Я тоже делал всё это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.
И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то - не без гордости - скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.
Всё более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это; я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики.
Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:
- Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...
Кончив "представление", я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых мелких гвоздей, они шевелятся там, нагреваются.
Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.
Думалось:
"Неужели вся жизнь - такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?"
- Сердит становишься, Максимыч,- говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня. Ситанов часто спрашивал:
- Ты что?
Я не умел ответить.
Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письмена, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью,- я сердито и настойчиво противился ее насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других,- порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.
Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это - хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные, и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина - единственные забавы в этой жизни.
Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.
Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?
О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху,- она была такая чужая всему, точно я ее видел во сне.
Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим,- я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.
Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.
- Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней - никого нет дороже!.. - О чем вы говорите?
- Обо всем, конешно. Она мне - про себя, а я ей - тоже про себя. Ну, целуемся... Только она - честная... Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!
Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:
- Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...
Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер - не было, лет с восьми он жил по чужим людям.
В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.