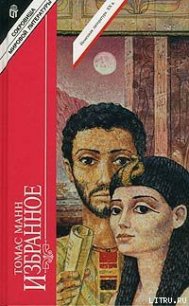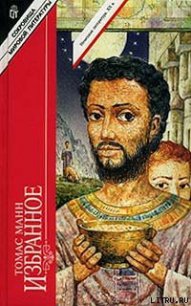ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
— По ее мнению, — засмеялся я. — Насколько она сама способна судить! В действительности, однако, она больше уже не является свободой, как не является ею диктатура, рожденная революцией.
— Ты уверен в этом? — спросил он. — Впрочем, это уже сюжет политический. В искусстве, во всяком случае, субъективное и объективное скрещиваются, их нельзя различить, одно выходит из другого и приобретает характер другого, субъективное преображается в объективное и снова по воле: гения воспаряет к спонтанности — «динамизируется», как мы выражаемся, начинает вдруг говорить на языке субъективном. Музыкальные каноны, ныне разрушенные, никогда не были такими уж объективными, навязанными извне. Они были закреплением живого опыта и как таковое долго выполняли задачу насущно важную — задачу организации. Организация — это все. Без нее вообще ничего не существует, а искусства — и подавно. И вот за эту задачу взялась эстетическая субъективность, заявив, что организует произведение изнутри, свободно.
— Ты имеешь в виду Бетховена.
— Его и тот технический принцип, благодаря которому деспотичная субъективность овладела музыкальной организацией, то есть разработку в сонатном аллегро. Разработка была малой частью сонаты, скромной областью субъективного начала и динамики. С Бетховеном она приобретает универсальность, становится центром всей формы вообще, которая, даже там, где она заранее определена каноном, поглощается субъективным и вновь обретает свободу. Вариация, то есть нечто архаичное, пережиток, становится средством непроизвольного сотворения новой формы. Вариационная разработка распространяется на всю сонату. У Брамса тематическое развитие еще интенсивнее и полнее. Брамс — вот тебе пример того, как субъективность превращается в объективность! У него музыка отказывается от всех канонических прикрас, формул и рудиментов, добывая, так сказать, единство произведения каждый миг заново — через свободу. Но как раз тут свобода и становится принципом всесторонней экономии, не оставляющим музыке ничего случайного и создающим любое многообразие из одного и того же материала. Где нет ничего нетематического, ничего, что нельзя было бы толковать как производное от неизменного, там едва ли можно говорить о свободном стиле…
— Но уж и не о строгом в старом смысле.
— В старом ли, в новом ли — сейчас я тебе скажу, как я понимаю строгий стиль. Я подразумеваю под этим полную интеграцию всех музыкальных измерений, их безразличие друг к другу в силу совершенной организации.
— По-твоему, это достижимо?
— Знаешь, — ответил он вопросом, — где я всего более приблизился к строгому стилю?
Я промолчал. Он стал говорить — до невнятности тихо, сквозь зубы, как всегда, когда у него болела голова.
— Однажды в брентановском цикле, — сказал он, — в песне «О любимая». Она вся — производное одной первоосновы, одного многократно варьируемого ряда интервалов из пяти звуков: h-e-a-e-es; горизонталь и вертикаль подчинены им в той степени, в какой это вообще возможно при основном мотиве со столь ограниченным числом нот. Основа представляет собой как бы слово, как бы шифр, знаки которого, разбросанные по всей песне, призваны детерминировать ключ. Слово это, однако, слишком коротко и по своему составу слишком неподвижно. Музыкальные возможности его слишком ограниченны. Следовало бы пойти дальше и образовать из двенадцати полутонов темперированного строя слова большей длины, двенадцатибуквенные, определенные комбинации и соотношения двенадцати полутонов, ряды, из которых строго выводилась бы пьеса — одна какая-то часть или даже целое произведение в нескольких частях. Каждый звук такой композиции, будучи мелодичным и гармоничным, должен был бы удостоверить свое родство с этой заранее данной основой. Ни один бы не повторился, пока не появились все остальные. Ни один бы не прозвучал, не выполняя своей функции в общем замысле. Не было бы никаких самодовлеющих нот. Вот что я назвал бы строгим стилем.
— Поразительная идея, — сказал я. — Это лучше уж назвать сквозной рациональной организацией. Так можно было бы добиться необычайной законченности и согласованности, какой-то астрономической закономерности и правильности. Однако, насколько я способен судить, неизменность такого ряда интервалов, как бы разнообразно его ни комбинировали и ритмически ни изменяли, неизбежно привела бы к прискорбному оскудению, к застою музыки.
— Вероятно, — ответил Адриан с улыбкой, показывавшей, что он ждал подобного возражения. Эта улыбка подчеркивала его сходство с матерью, но сопровождалась знакомым мне страдальческим выражением глаз, характерным именно для него в часы мигрени. — Однако дело обстоит не так просто. В систему пришлось бы включить все премудрости варьирования, даже поносимые за искусственность, стало быть, как раз тот прием, которым разработка некогда подчинила себе сонату. Спрашивается, зачем я, учась у Кречмара, так долго занимался упражнениями в старинном контрапункте и извел столько нотной бумаги на фуги с обращениями темы, ракоходные фуги и обращения ракоходных. Оказывается, всем этим можно воспользоваться для остроумной модификации двенадцатитоновой системы. Мало того, что последняя служит основным рядом, каждый интервал может быть заменен интервалом противоположного направления. Кроме того, композицию можно было бы начать последним и кончить первым звуком, а затем и эту форму повернуть обратно. Вот тебе четыре положения, которые, в свою очередь, транспортируются на все двенадцать исходных звуков хроматической гаммы, так что в распоряжении каждой композиции сорок восемь различных форм, и мало ли какие еще штуки способна выкинуть вариация. Композиция может взять в качестве исходного материала два или больше рядов по образцу двойной и тройной фуги. Главное, чтобы каждый звук, без всяких исключений, был на своем месте в ряду или в какой-либо его части. Так достигается то, что я называю неразличимостью гармонии и мелодии.
— Магический квадрат, — сказал я. — И ты надеешься, что всё это услышат?
— Услышат? — ответил он. — Помнишь ли ты некую общеполезную лекцию, которую нам однажды читали и из которой явствовало, что отнюдь не всё в музыке надо слышать? Если ты под «слушанием» подразумеваешь какую-то конкретную реализацию тех средств, которыми создается высший и строжайший устав, звездный, космический устав и распорядок, то ее не услышат. Но самый устав будет или может быть услышан, и это доставит людям неведомое доселе эстетическое удовлетворение.
— Любопытная вещь, — сказал я, — у тебя получается что-то вроде сочинения музыки до ее сочинения. Материал нужно распределить и организовать до начала настоящей работы; спрашивается, какая же работа, собственно, настоящая. Ведь эта подготовка материала осуществляется с помощью вариации, а у тебя возможности варьировать, это, собственно, и следует называть сочинительством, заранее ограничены материалом. Значит, ограничена и свобода композитора. Когда он приступает к работе, он уже несвободен.
— Связан уставом, которому добровольно подчинился, а стало быть, свободен:
— Ну да, диалектика свободы непостижима. Но уж в области-то гармонии он едва ли будет свободен. Разве построение аккордов не предоставлено случаю, слепому року?
— Скажи лучше: констелляции. Полифоническая честь каждого аккордообразующего звука гарантируется констелляцией. Исторические итоги, отказ от разрешения диссонанса, абсолютизация диссонанса, как это иногда имеет место у позднего Вагнера, оправдают любое созвучие, если оно узаконено системой.
— А если констелляция обернется банальностью, консонансом, трезвучной гармонией, старьем, уменьшенным септаккордом?
— Это будет обновление старины констелляцией.
— Я усматриваю реставраторские тенденции в твоей утопии. Она очень радикальна, но она отчасти снимает запрет, по существу уже наложенный на консонанс. Возврат к старинным формам вариации тоже знаменателен в этом плаце.
— Интересные явления жизни, — ответил он, — по-видимому, всегда отличаются двуликостью, сочетающей прошлое и будущее, они, по-видимому, всегда одновременно и прогрессивны и регрессивны. В них выражается двусмысленность самой жизни.