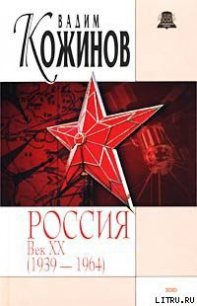От Византии до Орды. История Руси и русского Слова - Кожинов Вадим Валерьянович (серия книг TXT) 📗
Не исключено, что эти мои суждения будут восприняты как некое «принижение» столь чтимого всеми «Слова»… Но такое восприятие было бы совершенно неосновательным. Во-первых, «Слово», как уже сказано, – одно из величайших собственно художественных творений на Руси. А для величия художественного мира, в конце концов, не существенна «реальная» основа: этот мир может опираться и на точно воссозданные действительные события, и на события, которые в значительной степени или даже целиком являются плодом творческого вымысла художника. Так, одна из величайших (если не величайшая) из русских поэм – пушкинский «Медный всадник» – не могла бы возникнуть без очень существенной доли вымысла (к тому же ирреального, фантастического вымысла).
С другой стороны, «Слово», как и другие высшие творения русского искусства, живет не своей связью с определенным отдельным событием, а воплощенной в нем целостностью исторического бытия Руси вообще. Его породило не столько противоборство Игоря и Кончака, сколько глубокая память обо всех прежних битвах и жертвах Руси и, более того, вещее предчувствие, предсказание грядущих битв и жертв – в том числе, конечно, и столкновения с роковой мощью монгольского войска (об этом не раз говорилось в литературе), которое подошло к Руси менее чем через сорок лет после Игорева похода. И, говоря об определенном «несоответствии» действительных отношений Руси с половцами и той «картины» этих отношений, которая предстает в «Слове», я преследовал простую цель: показать, что художественный мир поэмы (из которого многие черпают свои основные представления об этих отношениях) и реальная история – существенно разные явления.
Нельзя не сказать, что я более или менее подробно остановился на проблеме взаимоотношений русских и половцев отнюдь не только для уяснения этих отношений как таковых. Перед нами одно из бесчисленного множества проявлений евразийской сущности Руси – наиболее глубокой и наиболее масштабной основы ее исторического бытия, символом которой и стал с XV века ее герб – двуглавый орел (считается, что этот герб был попросту заимствован из Византии, также существовавшей на грани Европы и Азии, однако есть основания полагать, что в Византии этот символ не обладает столь же центральным, главенствующим значением, как на Руси). «Евразийская» политика Руси ясно выразилась уже в XII веке в матримониальных (то есть брачных) союзах ее великих князей (о них уже упоминалось) – союзах, которые всегда имели прямое государственное значение. Так, если в XI веке Ярослав Мудрый выдал своих сыновей и дочерей за представителей различных европейских правящих династий, то его внук Владимир Мономах, женатый на дочери английского короля, обручил своего сына Мстислава с дочерью шведского короля, дочь Евфимию – с венгерским королем, а сыновей Юрия (Долгорукого) и Андрея – с дочерью половецкого хана Аепы и внучкой Тугорхана и, наконец, сына Ярополка – с осетинской княжной. Эти государственные браки нельзя рассматривать в «бытовом» аспекте; они с очевидностью запечатлели двойственный, «евразийский» характер исторического бытия Руси.
А вся история взаимоотношений русских и половцев, пришедших в южнорусские степи в середине XI века из глубин Азии (из Прииртышья), ясно свидетельствует о способности русских установить – при всех имевших место противоречиях – равноправные отношения с, казалось бы, совершенно не совместимым с ними, чуждым кочевым народом. Сама борьба русских князей с половецкими ханами – пусть нередко принимавшая острейшие формы – едва ли решительно отличалась от борьбы тех или иных враждующих русских князей между собой; многочисленные союзы князей с ханами во время борьбы с другими русскими же князьями говорят об этом со всей определенностью.
И современники, и позднейшие историки не раз безоговорочно осуждали подобные союзы. Но в таких приговорах едва ли выражалось понимание реального положения дел. И с особенной яркостью «недействительность» этих приговоров запечатлена в судьбе князя Игоря Святославича. В «Слове» он представлен как беззаветный герой противоборства с половцами, а в действительности он был, если угодно, другом Кончака до своего воспетого в «Слове» набега и стал его родственником после этого набега.
Итак, взаимоотношения русских и половцев никак нельзя трактовать в плане борьбы с некой непримиримо враждебной силой; половцы в конечном счете были частью Руси. Поэтому русско-половецкое противостояние никак не могло стать «предметом» и стимулом для создания русского героического эпоса (то есть былин) – не могло в особенности потому, что у половцев не было и намека на мощную и хорошо организованную государственность, которая явилась бы той силой, которая могла реально подчинить себе Русь. Половцы совершали грабительские походы на Русь, приносившие нередко очень тяжкий урон, но они, так сказать, даже и не ставили перед собой задачу «порабощения» Руси; в конечном счете это ясно и из самого «Слова о полку Игореве».
И, вопреки мнению многих литературоведов, «Слово» не являет собой (в отличие от былин) героический эпос. Конечно, оно так или иначе связано с традицией героического эпоса; но эта традиция существенно изменена или, вернее, претворена в принципиально иной жанровый феномен и с точки зрения типа, способа воплощения (об этом говорилось выше; так, элементы мифа стали здесь «средством» создания образа, а не его содержанием), и с точки зрения самого совершающегося в произведении действа. Это претворение глубоко раскрыто в кратком рассуждении М. М. Бахтина, которое начинается так:
«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи (имеется в виду именно героический жанр. – В. К.). Процесс разложения эпопеи и создания новых эпических жанров… «Слово о полку Игореве» – это не песнь о победе, а песнь о поражении (как и «Песнь о Роланде»). Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и посрамления… Для «Слова» характерно не только то, что это эпопея о поражении, но особенно и то, что герой не погибает (радикальное отличие от Роланда) [193] . Игорь… ничего не сделал и не погиб». Но вместе с тем Игорь, испытав посрамление и тем самым как бы, по словам М. М. Бахтина, «претерпев временную смерть (плен, «рабство»), возрождается снова» [194] .
И эта сердцевина содержания «Слова о полку Игореве» едва ли может быть понята в рамках героического эпоса. М. М. Бахтин (что необходимо подчеркнуть) определяет «Слово о полку Игореве» не только как результат «разложения» героического эпоса, но и как плод начавшегося «созидания» иного, нового жанра – жанра, который, по сути дела, предвосхищает – в очень отдаленной исторической перспективе – русский роман эпохи его расцвета – роман, для коего в высшей степени характерно именно «посрамление» героя, его «смерть» ради подлинного «воскресения».
Об этом глубочайшем мотиве русского романа, в частности, говорил Достоевский, оценивая толстовскую «Анну Каренину»:
«Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) – и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми… Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но унизившись стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими» [195] .
Суждение это вполне уместно отнести не только к романам Толстого, но и ко многим другим русским романам XIX века, включая, конечно, и романы самого Достоевского. Но художественная «тема», обрисованная здесь, так или иначе зарождалась в «Слове о полку Игореве», которое, помимо прочего, и по этой причине было столь родственно воспринято в XIX веке. И это, понятно, не «тема» героического эпоса, а прорыв в будущее, совершенный (что вполне естественно) на излете исторической эпохи – в последние десятилетия существования собственно Киевской Руси.