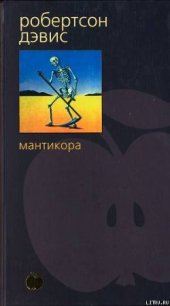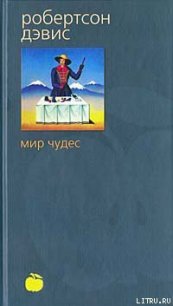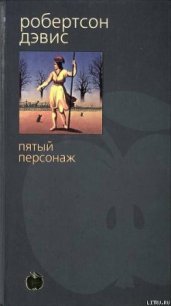Лира Орфея - Дэвис Робертсон (книги полностью txt) 📗
— Расскажи.
— Да, да — древнюю и вечно новую быль, как поется в твоей любимой песне. Но это вовсе не та древняя история, которую ты подозреваешь. А другая, гораздо старше — она уходит в глубь веков и, наверно, эпох, во времена, когда женщины только-только перестали быть недочеловеками, жмущимися в глубине пещеры.
— Мифическая?
— Да, клянусь Богом! Именно мифическая. Как в тех мифах, в которых бог сходит к смертной женщине. Помнишь, как-то вечером Пауэлл рассказывал сюжет оперы и там Моргана Ле Фэй пару раз появлялась переодетой и плела интриги?
— Да. Мы тогда говорили о сценическом переодевании.
— И Артур сказал, что его всегда раздражал этот прием в старинных пьесах, когда персонаж надевает плащ и шляпу и все остальные принимают его за другого. Артур тогда сказал, что переодевание невозможно. Мы узнаем людей по походке, по осанке, по тысяче неосознаваемых вещей. Еще он сказал, что спину замаскировать невозможно — ни один человек не видит себя со спины, зато все остальные его видят, и со спины человека гораздо легче узнать, чем лицом к лицу. Помнишь, что на это ответил Пауэлл?
— Что-то вроде того, что люди хотят обманываться?
— Да. Что мы сами навлекаем на себя обман, как и в тех случаях, когда смотрим выступление фокусника. Он рассказал, как однажды участвовал в концерте в сумасшедшем доме. Очень талантливый иллюзионист выбивался из сил, но ему совсем не хлопали. Почему? Потому что сумасшедшие не были его сообщниками по обману. Для них кролик, появляющийся из пустой шляпы, — в порядке вещей. А вот здоровые люди — доктора и медсестры, живущие в том же пространстве аксиом, что и фокусник, — были в восторге от его выступления. И с маскировкой то же самое. На сцене людям можно отвести глаза чисто условным переодеванием, потому что настоящий обман творят они сами, своей волей. Покажите Ланселоту и Гвиневре ведьму, и они поверят, что это ведьма, потому что в их ситуации ведьма гораздо уместней, чем Моргана Ле Фэй в лохмотьях.
— Да, я помню. Мне тогда показалось, что это довольно хлипкий аргумент.
— Но ты наверняка помнишь, что он сказал после этого? Что мы обманываемся, потому что сами хотим обмануться. Это для нас по каким-то причинам необходимо. Это — аспект судьбы.
— Кажется, помню. Пауэлл несет завораживающую кельтскую чепуху в огромных количествах, верно?
— Ты так цинично к нему относишься, потому что он потрясающе убедителен, а ты ему завидуешь. Если ты так настроен, мне незачем продолжать.
— Нет-нет, продолжай. Я обещаю на время отложить свое неверие в идеи Геранта Пауэлла.
— Да уж придется. А теперь слушай внимательно. Месяца два назад Пауэлл зашел ко мне по делу. Как ты знаешь, он сейчас заключает договоры с певцами и другими участниками постановки и перед подписанием — он очень щепетилен на этот счет — всегда показывает их Артуру или мне, если Артур в отъезде. В тот вечер Артур был в отъезде. В Монреале, он там часто бывает, и я не знала, когда он должен вернуться. Поздно ночью или на следующее утро. Мы с Пауэллом работали допоздна, а потом пошли спать.
— Прямо так, без предисловий?
— Да нет, не в том смысле, что легли вместе. Пауэлл часто ночует у нас в гостевой комнате, если задерживается в городе. А утром рано встает и сразу едет в Стратфорд. Это уже заведенный порядок и очень удобно для Пауэлла.
— Вот и Уолли Кроттель так подумал.
— К черту Уолли Кроттеля. Ну вот, я пошла к себе и заснула, а часа в два ночи вошел Артур и лег ко мне в постель.
— Я полагаю, в этом не было ничего необычного.
— Это было не совсем обычно. Понимаешь, после болезни Артур отселился в отдельную комнату и там же обычно спит, а ко мне приходит только по случаю секса. Так что я не удивилась.
— И это был Артур?
— Кто же еще? На нем был халат Артура. Ты наверняка помнишь этот халат. Я его подарила Артуру вскоре после свадьбы. Его шили по моему заказу, геральдических цветов короля Артура и с его гербом — зеленым драконом в красной короне на золотом поле. Этот халат ни с чем не спутать. Я нащупала вышитого дракона на спине. Пришедший скользнул в мою постель, распахнул халат — и вуаля.
— Все как по писаному.
— Да.
— Мария, я не верю ни единому слову.
— Но я поверила. Или очень важная часть меня поверила. Я приняла его за Артура.
— А он взял тебя, как Артур?
— Именно это мне трудно объяснить. Если к тебе в очень темную спальню входит мужчина, и ты на ощупь узнаешь так хорошо знакомый тебе домашний халат твоего мужа, и этот мужчина доставляет тебе такое наслаждение, что все сомнения и недовольство прошедших недель развеиваются, как дым, — неужели ты потребуешь, чтобы он назвался?
— Он ничего не говорил?
— Ни слова. Слова были не нужны.
— Мария, все это чертовски подозрительно. Я невеликий специалист, но у любой пары бывают какие-то привычные, ожидаемые вещи — ласки, звуки и, конечно, запахи. От него пахло Артуром?
— Я не помню.
— Ну, Мария, так не пойдет.
— Ну… и да и нет.
— Но ты не протестовала.
— Разве в такие минуты протестуют?
— Надо думать, нет. Знаешь, я, наверно, тебя понимаю.
— Спасибо, Симон. Я надеялась, что ты поймешь. Но не была уверена. Мужчины в таких вещах совершенно непредсказуемы.
— Ты же сама все сказала несколько минут назад. Эта история уходит в глубь веков и не стареет. Демон-любовник. Ты рассказала Артуру?
— Как я могла, когда он весь такой выдержанный и, черт бы его побрал, святой?
— Уж постарайся. Он многое понимает — ты и не подозреваешь, сколько именно. К тому же он и сам небезупречен. Он скрыл от тебя то, что ты имела полное право знать. Устройте-ка диван. Ничто так не оздоравливает атмосферу, как хороший цыганский диван.
5
Есть особый род отчаяния, известный писателям, которые не могут выкроить время для собственного труда. Даркур был необычно раздражителен, потому что вообще не продвигался в работе над биографией покойного Фрэнсиса Корниша. Внезапную идею, озарившую его в гостиной княгини Амалии, нужно было развить дальше, раскопать, а он чем занимался? Отнюдь не этим, а семейными несчастьями Артура и Марии. Будучи подлинно сострадательным человеком — хотя и презирая то, что свет считает состраданием, — Даркур много думал об Артуре и Марии и, правду сказать, переживал за них. Как многие, чье ремесло — давать советы другим, Даркур никогда не исполнял собственные предписания. Он сказал обоим друзьям, что беспокоиться и грызть себя — бессмысленно и вредно, а когда они ушли, увяз в беспокойстве за них. По идее Даркур был в саббатическом отпуске, то есть отдыхал от университетской работы, но любой преподаватель знает, что, не уехав из университета, невозможно полностью отрешиться от своих обязанностей.
Взять, например, Пенни Рейвен. Ее, вроде бы идеальную женщину-ученого, чудо организованности и разумного подхода к жизни, повергло в полное смятение то, что происходило между Шнак и доктором Даль-Сут. Что же именно между ними происходило? «Симон, ты что-нибудь знаешь?» Даркур старался хранить терпение во время ее продолжительных звонков. «Я знаю, что доктор и Шнак работают над оперой и со страшной скоростью выдают на-гора музыку, безжалостно погоняя меня, чтобы я приносил новые и новые куски либретто или поменял что-то в написанном ранее; я захожу к ним раз в день, а то и чаще, и мы препираемся из-за кусков речитатива; я никогда не думал, что у либреттиста такая собачья жизнь. Верди по сравнению с Гуниллой показался бы ангелом. Они работают, Пенни, работают!» — «Да, да, Симон, я понимаю, но не могут же они работать все время. Какая там атмосфера? Мне чудовищно больно думать, что бедную девочку втянули в ситуацию, с которой ей не справиться». — «С атмосферой там все в порядке; учительница направляет ученицу, но не подавляет ее, а ученица цветет, как роза, — ну, может, и не как роза, но на ней проклюнулось несколько робких бутонов. Она вымыта, накормлена и по временам даже смеется — тихим, пыльным смешком». — «Да, Симон, но как это достигается? Какой ценой?» — «Не знаю, Пенни, и, честно говоря, мне все равно, потому что это не мое дело. Я не нянька. Сходи посмотри сама, если тебя это так волнует. Кстати говоря, ты должна была писать либретто вместе со мной, но пока что совершенно ни хрена не сделала». — «Да, но у тебя так хорошо получается, а мне надо готовить огромный доклад к следующему заседанию научного общества, и, честно, у меня совсем нет времени. Но я приду в самом конце и положу несколько завершающих штрихов». — «Черта с два! Раз я пишу либретто, никто, кроме меня, не будет вносить в него завершающие штрихи. Все штрихи, которые нужны, я получаю от Ниллы, а в том, что касается английской поэзии, ее штрихи больше похожи на удары кузнечного молота». — «Ну хорошо, значит, ты отказываешься нести ответственность за юную особу, вверенную твоему попечению — во всяком случае, до определенной степени». — «Нет, Пенни, она не вверена моему попечению; если она кому и вверена, то это Уинтерсену, а от него ты не добьешься выступлений в защиту высокой морали. А если будешь и дальше совать нос не в свое дело, то не исключено, что Шнак заедет по нему кулаком. Я тебя предупредил». — «Ну что ж. Ну что ж. Но я обеспокоена и разочарована». — «Прекрасно! Продолжай в том же духе. Кстати, ты, случайно, не знаешь какого-нибудь двусложного слова, чтобы заменить „печаль“? „Печаль“ не подходит, плохо ложится на музыку: у меня тут четвертная нота, за которой следует восьмушка. Вот о таких вещах мне все время приходится думать. О, я знаю! „Скорби“! Прекрасное слово, прямо из Мэлори, и ударение на первом слоге, а потом безударный второй. Его можно спеть! Прекрасный ударный открытый слог, а за ним безударный маленький». — «Нет, Симон, это совсем не годится. Слишком архаично и театрально». — «Господи, Пенни! Оставь меня в покое, ты… критик!»