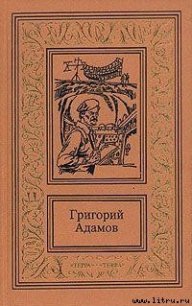Музейный роман - Ряжский Григорий Викторович (чтение книг .txt, .fb2) 📗
Вот такая история, Евгений. — Хозяин дома улыбнулся, довольный своей повестью. И пояснил: — Это я к чему, друг ты мой любезный… Это к тому, что ничего нет проще в деле твоём, Женя. И телефончик дам, и адресок в Брюгге этом Хрюгге, уже напрямую, без посредников. Они и встретят, и поселят, и предложат всякое. И оформят честь по чести. Сертификат вручáт. Звать его Себастьян, по-французски, правда, ни бум-бум, только по-фламандски, но думаю, и по-аглицки обслужить не погребует, если заплатят. Я этих повышенно культурных сволочей чую как никого. Хоть и одет весь из себя, прям как из прошлых веков на верёвке спустился. Или, наоборот, поднялся. — И вновь призывно зашёлся от смеха.
Это была новость добрая и приятная, даже несмотря на то, что сам хозяин-толстосум оставил впечатление примитивно изготовленного холерика с пониженным содержанием калия в повышенно дурной крови.
Мечталось о деньгах. Всё было просто, всегда ведь хотел разбогатеть, хотя никому в том не признавался. Никогда. Даже мама, единственный близкий человек, не догадывалась об этой узкопрофильной конфигурации, сложившейся в голове у сына. Он всегда знал, что занимает чужое место. Что по большому счёту бездарь. Что искал того, чего уже изначально никогда бы не постиг. На что даже случайно не мог напороться в поисках верного устройства жизни. Это было чужое, всё. Лёвка хоть и негодяй, и отчасти пижон, и в делах вертун и ловкач, но там он — свой. Алабин, он оттуда, из самой серёдки. Этот Лейба Алабян — талантливая и хитрожопая сволочь, заслуживающая, однако, как ни отвратительно это признавать, своего места. Потому что понимает, что делает. Чувствует, что и как говорит. И знает, о чём пишет. И главное, в отличие от него, Женьки Темницкого, этот тип, как никто, умеет продавать. И покупать. Чтобы уже перепродать, пристроить, втюхать — как угодно. И никому при этом не обидно. Такая планида. Такая судьба. Такая карта, мать его ети!
Путь, что уже нащупывался в тот хотьковский вечер, изначально был настолько извилист и шершав, что самому плохо верилось в осуществление задуманного. Кроме того, слишком многие параметры непременно должны были быть сведены в единый, довольно жёстко устроенный и тщательно отработанный план действий, совершаемых поступательно и неспешно. Иными словами, длиннющий список безошибочно угадываемых событий с непредсказуемо отдалённым результатом. Именно для подобного устройства дел голова его подходила как нельзя лучше, пускай даже за счёт потерь гуманистического толка.
«Итак, — размышлял Евгений Романович, — что же мы всё-таки имеем? — И сам же отвечал: — А имеем мы старинный бельгийский город Брюгге, где, судя по всему, существует некий культурный запас произведений искусства, не востребованный по сию пору, однако же готовый для реализации всякому имущему претенденту на обладание прекрасным. — И вопрошал ещё: — И что же дальше? — И снова отвечал себе: — Дальше мы должны объявиться в этом восхитительном городе, где непременно навестим „Мадонну с младенцем“ работы Микеланджело Буонарроти, что в церкви Богоматери…»
И тут же вспоминалось ему из совсем уже, считай, забытого, которое ещё молодым, не до конца испорченным пацаном читал взахлёб: «Вот почему она противилась, не хотела отпустить от себя этого прекрасного, сильного и проворного мальчика, ухватившегося своей ручонкой за её ограждающую руку. И вот почему она прикрывала сына краем своего плаща. У мальчика, чувствующего настроение матери, тоже таилась в глазах печаль. Он был полон сил и отваги, скоро он соскочит с материнских колен и надолго покинет это надёжное убежище, но вот теперь, в эту минуту, он вцепился в руку матери одной своей рукой, а другую прижал к её бедру. Быть может, он сейчас думал о ней, о своей матери, опечаленной неизбежной разлукой: её сын, так доверчиво прильнувший к коленям, скоро будет странствовать в мире один…» [4]
Он размышлял о себе во множественном числе, ещё не отдавая отчёта в том, что наверняка будет в деле не один. Для исполнения задуманного понадобится ещё кто-то, но пока даже сам он не может сказать, кто именно и сколько будет их. Нет, он не станет странствовать, как молодой Иисус, печалясь, соря советами налево и направо и разглядывая мир сквозь призму любви и добра. Он станет действовать нацеленно, минуя полые промежутки и огибая острые углы. А уже после того, как разделается с цивилизованной частью предстоящих изысканий, оставив подаянческую купюру сборщику церковной подати, он, Евгений Темницкий, перейдёт к методичному исполнению своей греховной задумки. Для этого он разыщет этого спасительного Себастьяна и вступит с ним в переговоры, имея в виду поддержать взаимовыгодное дело, запущенное когда-то его удачливыми сородичами по культуре.
В успехе этой части плана он не сомневался, просто не дав себе труда задуматься, отчего это так. Вероятно, сложность её осуществления не шла ни в какое сравнение со следующим этапом, который ещё предстояло одолеть. С тем самым, который стоял в его списке через один от этого.
Его тогдашний визит в Хотьково, кажется, пришёлся на самый конец лета. Или же ближе к середине сентября. А уже в начале ноября Евгений Романович ненароком подсел на мягкий стул, что был уготовлен для своих, ближайший к Ираиде Коробьянкиной, собиравшейся всецело отдаться Ференцу Листу в исполнении молодого пианистического таланта Даниила Трифонова.
Отсчитав ещё четыре дня от того исполнения, в ночь на пятый, он оказался в её постели. Точней сказать, она побывала в его. Маму он заблаговременно отправил в санаторий. Кажется, органов дыхания. У них же начался роман, который в замысле Темницкого призван был сыграть ключевую роль. Замысел тот уже давно не давал ему нормально жить, спать, думать о другом и прочем.
В декабре, дождавшись привычного спада в делах министерских, он выспросил недельный отпуск за свой счёт и, приобретя первый же выпавший билет до Брюсселя, отбыл в город Брюгге, предварительно известив о своём визите владельца галереи по имени Себастьян. Тот, как всегда, был учтив, мил в разговоре и обещал оказать посильное содействие в ублаготворении любой прихоти приятного клиента из России. Говорили по-французски, так что и по этой части препятствий не имелось.
Это был его первый визит в Брюгге. Покупать что-либо Евгений Темницкий не намеревался. Ему просто нужно было взглянуть на этого мутного Себастьяна и перекинуться с ним парой слов накоротке. Остальные его шаги зависели в том числе и от результатов такого разговора с глазу на глаз, и от степени взаимности обоюдного гипноза.
Он пробыл там всего день, чрезвычайно плодотворно прошедший. И даже успел отсмотреть Мадонну с тем самым младенцем, о которых в юности читал в «Муках и радостях». В общем и целом сошлось — образ и факт. Но, как ему показалось, всё же было излишне каменно, книжка оказалась интересней. Впрочем, то же он мог сказать и о храме Христа Спасителя в Москве: Ветхий Завет оказался позабористей, даже с учётом неохватной толщины тома и всего сопутствующего занудства. Вообще, если уж на то пошло, то никогда Женя Темницкий не баловал себя излишней верой в невидное глазу пустое занебесное. Порой думал он о том, кто же он есть такой, к какому типу недоверия больше примыкает его столь практично изготовленная душа. К полному безверию в это зыбкое верхнее чудо? Или же решение его половинчато и, опираясь на разумное начало, оставляет кусочек пространства для некой утешительной внутренней мякоти, без которой тоже, как ни крутись, гладко выходит не до конца. Так или иначе, но Бог, как и вся эта остальная мутная атрибутика, включая раздражительную для глаза поповщину, дымные кадила и тонюсенькие поминальные свечки ценою в толстенные, вяло тянулся, близясь к концу списка. Причём в том самом компромиссном варианте, когда никто никому не должен, но пускай имеются в наличии.
Первой же в списке устойчивых человеческих пристрастий шла мать. Маму он любил и мог за неё убить. Натурально. Вероятно, полагал он, сказывалась ранняя безотцовщина, в результате чего на маму легла непомерная тяжесть подымания его и выведения в люди. Он и на истфак пошёл, если уж на то пошло, только потому, что мама просила. Та, в свою очередь, о такой немужской, но чистой и целомудренной профессии услыхала от людей, в гостях. Как раз от покойной жены Арсения Львовича, которая по секрету от мужа шепнула, что хочет видеть своего Лёвочку искусствоведом. Что мечтает о том, чтобы мальчик оказался в среде людей образованных, но только подкованных не по-технарски, как его отец, а мечтательных, видящих прекрасное не как все, а много больше и глубже, согласующих любое действие своё или помысел с культурным началом в себе же самом, с гармонией окружающего мира, с добротой и гуманностью в отношении к человеку.