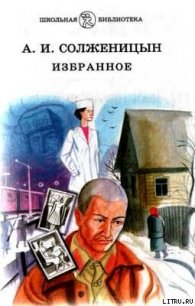Русский вопрос на рубеже веков (сборник) - Солженицын Александр Исаевич (книги онлайн полностью txt, fb2) 📗
Бог хранит: до сих пор не издали заклятого закона. (Да чёрный-то рынок земельный поспешествует, «теневая» продажа земли идёт, особенно близ городов крупных. А в некоторых автономиях готовится и такое извращение: право на земельные участки предоставить только титульной нации.)
А ведь раньше, чем так страстно обсуждать продажу сельскохозяйственной земли, — задуматься бы: а откуда она у государства взялась? ведь она вся ворованная — отобранная у крестьянства. Так раньше гомона о продаже поискать бы пути, как вернуть землю крестьянам: и колхозникам-совхозникам, ограбленным в коллективизацию; и не менее того, а даже раньше — потомкам раскулаченных. Такие обнаруживаются во многих местах и просят вернуть им участок именно своего деда-прадеда. («Докажи бумагами изъятие!» — как будто раскулачники выдавали справки. Но местные жители помнят.) И это — справедливо, всё вместе это было бы — реабилитацией крестьянства.
А если мы этого не сделаем — то мы государство разбойников.
Начать бы с того, чтобы широко послушать мнения агрономов, мелиораторов, самих крестьян. Я в своих поездках по России, сколько мог, собирал такие мнения — и они стройно складываются. И не противоречат формулировке дореволюционной 4-й Государственной Думы: «Частное владение на правах постоянного наследственного пользования». Но не аукционом «кто дороже» должна распределяться земля, а конкурсом на лучшее использование её. Для сохранения здоровья и богатства России — земля при смене собственника должна использоваться по тому же сельскохозяйственному назначению, с не меньшей эффективностью и разумностью. И ещё сколько времени и работы, чтобы создать такой механизм — через систему же местных земельных банков.
Возможна продажа в пожизненное наследственное владение, возможна аренда, формы землепользования зависят ещё и от местности. Но во всех случаях — зоркий местный контроль: эффективно ли ведётся хозяйство и экологично ли? Если нарушается природоохранность или года два-три хозяйство ведётся бро́сово — владение участком прерывается, возвращаются деньги за покупку и вложенные с тех пор средства. Вся сумма земельного налога (с доплатами за качество почвы и расположение участка) через местную власть должна использоваться только для местных целей. Почва — тоже не вечная терпелица, не разменный товар: её кому-то постоянно восстанавливать.
А леса, озёра и болота — собственность государства и вообще не могут быть продаваемы. (Но леса-то, леса! в эти годы уже и распродают…)
Да земледелец — разве только выработчик продовольствия? Он живёт в повседневной отзывчивой связи с природой и её ритмом. И разумная организация земледельческого труда углубляет эту связь. Должен же кто-то в народе жить в созвуке и сочувствии с ней. Общность земледельца с землёй — с её родниками, ручьями, малыми реками, перелесками и рощами — основа народной духовности. Земля — чистый, верный источник любви к родине. И — устойчивости государства. Корневая, душевная связь народа с землёй — это не «товар» биржевой, она дорога нам, как сама Родина и сама душа. И эта самая дорогая, корневая наша связь — под угрозой полного уничтожения.
СУДЬБА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
О школах я писал и говорил много, повторять ли тут? Заброшенность их, особенно сельских. Глубокая нищета самих школ, нищета учителей. Миллионы подростков отсеиваются без права на полное среднее образование. Круговерчение безответственных программных проектов, учебников и самих методов, по сути, разрушающих стройную систему знаний. В 1997 вздулась волна крупной школьной реформы? — выродилась в юридическо-финансовый гибрид: как бы сделать, чтобы школы содержали себя больше сами, а из государственного бюджета — ну, какие остатки будут.
Дети наши — они-то отмежёваны не бесповоротней ли всего?..
15. Армия, разгромленная без войны
И об этом — сколько уже сказано, написано, напечатано. То и дело достигают нас ужасающие сигналы: то взрываются и взрываются худо охраняемые склады боеприпасов, не случайно же. То — беспричинные убийства, расстрелы караульных солдат своими же товарищами, нечто невиданное в мировой армейской истории.
Началась подточка армии, конечно, раньше — от общего тления коммунистического режима. По мере того как круг офицерских забот обращался на преодоление скудеющих жизненных условий своих семей, множество офицеров отвело глаза от того, что делалось в их частях с рядовым составом. А там — уже на десятилетия отдалилось то ощущение боевой взаимовыручки, которое более всего роднит солдат, — общее же в стране эгоистическое ужесточение нравов проникло сюда в форме уголовно-блатного сознания, породившего унизительную дедовщину, растаптывающую достоинство человека. И такая бессмысленная война, как афганская, не могла прочистить этот опасно замутнённый всеармейский дух. А высшие круги власти не снисходили волноваться или даже задумываться о разъедающих армейских болезнях: их сынки не попадали в эту переделку, военная же сила страны, казалось, всё менее зависела от состояния армии, а лишь от ядерного оружия.
Но вот наступили месяцы и годы интернациональных восторгов нашей общественности: ура! не осталось врагов на Земле! уже никто никогда не нападёт на нас, да даже и не притеснит! А уж Соединённые Штаты и никогда никого пальцем не тронули (ни даже ради нефти).
И тут же сверкающая мысль: а зачем нам вообще теперь армия? — эта тупая сила, на которую может опереться реакция? Раскатилась необузданная кампания в прессе, что армия и всё в армии отвратительны. С особой страстью и убедительностью кинулись писать об этой тяжеловесной, двухмиллионной (тогда) армии, невыносимом грузе на нашей свободной жизни.
От 1985 к 1995 годовое число призывников, уклонившихся от военной службы, возросло в 10 раз. Военкоматы начали охоту на призывников: задерживали их на улицах, вытаскивали из квартир. («А схваченный призывник — какой солдат?») Не хватало по разнарядке — слали в армию со сдвинутой психикой, с мозговыми болезнями. (И удивляться ли стрельбе по своим?)
Беседовать с призывниками, в моих путях, досталось и мне; я поражён был: какие ещё мальчики, дети, их и призывать стали с 18 лет, а они ещё и хрупче своего возраста, недокормленные, недоросшие. И все они чувствуют себя влипшими: кто из сверстников нашёл лазейку, за кого деньги заступились, кто уже и бизнес крутит, кто в студенты унырнул — а они, вот, попались. (Один офицер сказал: «Армия у нас — опять рабоче-крестьянская, из интеллигенции нету». Другой вспомнил старое время: позорно считалось среди молодёжи, что забракован по болезни, а теперь — счастье.) Появляются в газетах снимки призывников — на них видно физическое вырождение нации.
Ещё бы не понять матерей: любое государство, призывающее в армию юношей, берёт на себя естественное обязательство содержать их там как сынов отечества, а не как уголовных преступников и не как рабов. Любое — но не позднесоветское и не наше нынешнее. Сквозь высокие заботы высочайших лиц государства не продирается материнский крик, что отдаваемым юношам первая угроза — не на поле боя, а в казарме; что, может быть, отдают своих сыновей на издевательства, побои, на крайние унижения вплоть до изнасилования, на самоубийственное отчаяние. Это отчаяние леденит кровь миллионам — но только не нашим властвующим.
И при таком состоянии армии — с какой совестью и с каким государственным смыслом можно было не только утепляться в Чечню, но ещё и брать, брать на Россию обязательства посылать контингенты — туда, сюда, ещё куда-то, выдувая престиж «Великой Державы»?
По встречам в воинских частях узнавал я: нет обученного сержантского состава; не хватает лейтенантов (молодые офицеры валом уходят из армии); из десяти офицеров — девять не имеют квартир. Дальше — больше: зарплаты не платят — офицеры подрабатывают грузчиками. А кто отчаивается до самоубийства. (Тут что ни абзац — на главу.)