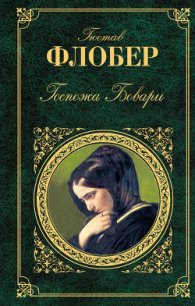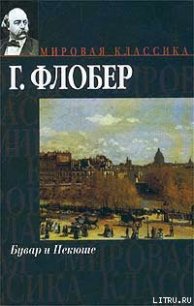Госпожа Бовари. Воспитание чувств - Флобер Гюстав (книги без регистрации бесплатно полностью txt) 📗
— О, я вас понимаю!..
— Нет, вы этого понять не можете — вы не женщина!
Но ведь и у мужчин есть свои горести. Так, философствуя, втянулись они в беседу. Эмма долго говорила о том, как мелки земные страсти, и о том, что сердце человека обречено на вечное одиночество.
Чтобы порисоваться, а быть может, наивно подражая своим любимым меланхолическим героям, молодой человек сказал, что его занятия ему опротивели. Юриспруденцию он ненавидит, его влечет к себе другое поприще, а мать в каждом письме докучает ему своими наставлениями. Они все яснее говорили о том, почему им так тяжело, и это растущее взаимодоверие действовало на них возбуждающе. Но все же быть откровенными до конца они не решались — они старались найти такие слова, которые могли бы только навести на определенную мысль. Эмма так и не сказала, что любила другого; Леон не признался, что позабыл ее.
Быть может, Леон теперь и не помнил об ужинах с масками после бала, а Эмма, конечно, не думала о том, как она утром бежала по траве на свидание в усадьбу своего любовника. Уличный шум почти не долетал до них; в этом номерке, именно потому, что он был такой тесный, они чувствовали себя как-то особенно уединенно. Эмма, в канифасовом пеньюаре, откинулась на спинку старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской прямого пробора, из-под прядей выглядывали мочки ушей.
— Ах, простите! — сказала она. — Вам, верно, наскучили мои вечные жалобы!
— Да нет, что вы, что вы!
— Если б вы знали, о чем я всегда мечтала! — воскликнула Эмма, глядя в потолок своими прекрасными глазами, в которых вдруг заблестели слезинки.
— А я? О, я столько выстрадал! Я часто убегал из дому, ходил, бродил по набережной, старался оглушить себя шумом толпы и все никак не мог отделаться от наваждения. На бульваре я видел у одного торговца эстампами итальянскую гравюру с изображением Музы. Муза в тунике, с незабудками в распущенных волосах, глядит на луну. Какая-то сила неудержимо влекла меня к ней. Я часами простаивал перед этой гравюрой. Муза была чуть-чуть похожа на вас, — дрогнувшим голосом добавил Леон.
Эмма, чувствуя, как губы у нее невольно складываются в улыбку, отвернулась.
— Я часто писал вам письма и тут же их рвал, — снова заговорил Леон.
Она молчала.
— Я мечтал: а вдруг вы приедете в Париж! На улицах мне часто казалось, что я вижу вас. Я бегал за всеми фиакрами, в которых мелькал кончик шали, кончик вуалетки, похожей на вашу…
Эмма, видимо, решила не прерывать его. Скрестив руки и опустив голову, она рассматривала банты своих атласных туфелек, и пальцы ее ног по временам шевелились.
Наконец она вздохнула.
— А все же нет ничего печальнее моей участи: моя жизнь никому не нужна. Если бы от наших страданий кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, утешались мыслью о том, что жертвуем собой ради других.
Леон стал превозносить добродетель, долг и безмолвное самоотречение; оказывается, он тоже ощущал неодолимую потребность в самопожертвовании, но не мог удовлетворить ее.
— Мне очень хочется быть сестрой милосердия, — сказала она.
— Увы! — воскликнул Леон. — У мужчин такого святого призвания нет. Я не вижу для себя занятия… пожалуй, кроме медицины…
Едва заметно пожав плечами, Эмма стала рассказывать о своей болезни: ведь она чуть не умерла! Как жаль! Смерть прекратила бы ее страдания. Леон поспешил признаться, что он тоже мечтает только о покое могилы. Однажды вечером ему будто бы даже вздумалось составить завещание, и в этом завещании он просил, чтобы к нему в гроб положили тот прелестный коврик с бархатной каемкой, который ему когда-то подарила Эмма. Обоим в самом деле хотелось быть такими, какими они себя изображали: оба создали себе идеал и к этому идеалу подтягивали свое прошлое. Слова — это волочильный стан, на котором можно растянуть любое чувство.
Однако выдумка с ковриком показалась ей неправдоподобной.
— Зачем же? — спросила она.
— Зачем?
Леон замялся.
— Затем, что я вас так любил!
Порадовавшись, что самый трудный барьер взят, Леон искоса взглянул на нее.
С ним произошло то же, что происходит на небе, когда ветер вдруг разгонит облака. Грустные думы, находившие одна на другую и омрачавшие голубые глаза Леона, как будто бы рассеялись; его лицо сияло счастьем.
Он ждал.
— Я и раньше об этом догадывалась… — наконец произнесла Эмма.
И тут они начали пересказывать друг другу мелкие события того невозвратного времени, все радости и горести которого сводились для них теперь к одному-единственному слову. Он вспомнил беседку, увитую ломоносом, платья Эммы, обстановку ее комнаты, весь ее дом.
— А наши милые кактусы целы?
— Померзли зимой.
— Как часто я о них думал, если б вы только знали! Я представлял их себе точно такими, как в те летние утра, когда занавески на окнах были пронизаны солнечным светом… и когда ваши обнаженные руки мелькали в цветах.
— Милый друг! — сказала Эмма и протянула ему руку.
Леон прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул.
— Внутри вас была тогда какая-то неведомая сила, и она действовала на меня неотразимо… — продолжал Леон. — Однажды я пришел к вам… Но вы, конечно, этого не помните.
— Нет, помню, — возразила Эмма. — Ну, дальше?
— Вы стояли внизу, в передней, на ступеньке, собирались уходить. На вас была шляпка с голубенькими цветочками. Вы мне не предложили проводить вас, а я все-таки, наперекор самому себе, пошел за вами. С каждой минутой мне все яснее становилось, что я допустил бестактность. Я плелся сзади, навязываться в провожатые мне было неловко, а уйти совсем я не мог. Когда вы заходили в лавки, я оставался на улице и смотрел в окно, как вы снимаете перчатки и отсчитываете деньги. Но вот вы позвонили к госпоже Тюваш, вам открыли, за вами захлопнулась большая тяжелая дверь, а я стою перед ней как дурак.
Госпожа Бовари слушала его и дивилась тому, какая она старая; ей казалось, что все эти восстанавливаемые в памяти подробности удлиняют прожитую жизнь; чувства, которые она сейчас вызывала в себе, росли до бесконечности.
— Да, правда!.. Правда!.. Правда!.. — полузакрыв глаза, время от времени роняла Эмма.
На всех часах квартала Бовуазин, где что ни шаг — то пансион, церковь или заброшенный особняк, пробило восемь. Леон и Эмма молчали, но когда они обменивались взглядами, в ушах у них начинало шуметь, точно из их неподвижных зрачков исходил какой-то звук. Они взялись за руки, и прошлое, будущее, воспоминания и мечты — все для них слилось в одно ощущение тихого восторга. Стены в номере потемнели, но еще сверкали выплывавшие из мрака яркие краски четырех гравюр: на них были изображены сцены из «Нельской башни», [51] а под гравюрами давались пояснения на испанском и французском языках. В окно был виден клочок темного неба между островерхими кровлями.
Эмма встала, зажгла на комоде две свечи и опять села на свое место.
— Итак?.. — спросил Леон.
— Итак? — в тон ему проговорила Эмма.
Он все еще думал, как вновь начать прерванный разговор, но вдруг она сама обратилась к нему с вопросом:
— Отчего никто до сих пор не выражал мне таких чувств?
Молодой человек на это заметил, что возвышенную натуру не так-то легко понять. Он, однако, полюбил ее с первого взгляда и потом не раз приходил в отчаяние при мысли о том, как бы они могли быть счастливы, если б волею судеб встретились раньше и связали себя неразрывными узами.
— Я тоже иногда об этом думала, — призналась Эмма.
— Какая отрадная мечта! — прошептал Леон и, осторожно перебирая синюю бахрому ее длинного белого пояса, добавил: — Кто же нам мешает все начать сызнова?..
— Нет, мой друг, — сказала Эмма. — Я уже стара… а вы еще молоды… Забудьте обо мне! Вас еще полюбят… полюбите и вы.
— Но не так, как вас! — вырвалось у Леона.
— Какое вы еще дитя! Ну будем же благоразумны! Я так хочу!
51
Стр. 219. «Нельская башня» — романтическая драма Александра Дюма-отца и Гайярде, поставленная в 1832 г. на сцене театра Порт-Сен-Мартен.