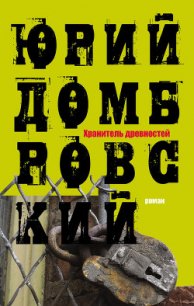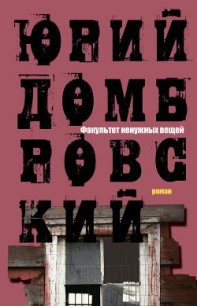Обезьяна приходит за своим черепом - Домбровский Юрий Осипович (список книг .txt, .fb2) 📗
В общем, я понял, что надо кончать, и сказал:
– Шеф, я все понимаю и со всем согласен.
– Ну и отлично! – рассерженно фыркнул он.
– Я все понимаю. Дайте мне обратно мою статью. – И протянул руку.
Тут он сразу осекся, лицо его сделалось растерянным, а глаза близорукими. То, что ему не пришлось хитрить и чертить вокруг меня лисьи петли и, значит, все речи и ультиматумы, которые он так тщательно подготовлял, пропали даром, произвело на него впечатление осечки, как будто он примерился, размахнулся, чтоб ткнуть противника в челюсть, а тот пригнулся или отскочил – и вот вместо упругого ощущения удара только ноет вывихнутая рука, и никак не поймешь: что же случилось?
Я взял у него статью и бросил ее на стол. Он пробормотал что-то вроде того: “А вы что, разве хотите сами?..” – и замолк, не зная, что сказать.
Я обошел стол с другой стороны, взял чашки – его и свою, – налил кофе и сказал:
– Не будем ссориться. Я все продумал и вижу, что нам хотя бы на время надо разойтись.
– Как? – кудахтнул он уже в полной растерянности, охваченный, может быть, настоящей тревогой. Все ведь шло совсем не так, как он думал: я сам уходил, а не он меня увольнял.
– На время, на время, шеф! – успокоил я его.
И после того, как я произнес это решительное слово разрыва, все мое раздражение, неприязнь, даже чуть не ненависть – все как ветром снесло. Ибо не было уже передо мной врага, изменника, капитулянта, а было, наконец, только препятствие, которое я – наконец-то! – одолел одним рывком и о котором после этого уже не стоило размышлять.
– Пейте кофе, профессор, – сказал я и чуть не улыбнулся, потому что и это все ведь было когда-то.
Весь последний год я ненавидел этого человека, ненавидел все, что он делает, пишет, организует, редактирует, ненавидел его за все доброе, ненавидел за все злое, а больше всего за то, что он все время менялся в своей роковой значимости. То он был для меня действительно дядей Иоганном, давним другом моего отца, у которого я играл на коленях, – это был, конечно, миф, но так уж повелось издавна. (“Ах, я же помню вас, Ганс, когда вы еще были вот какой! Помните, как вы играли у меня на коленях?” Или: “Вы же играли у шефа на коленях, разве он вам в чем-нибудь откажет?” – это когда надо было замять какую-нибудь неудобную редакционную историю.) Потом пришла война, в город вошли нацистские войска, на фонарях появились повешенные, на улицах – убитые. Нашу семью покинули все. Мы жили за сорок километров от города, и когда Ланэ появился там и пришел сначала к матери, а потом к отцу, впервые проползло по почти опустевшим комнатам таинственное и скользкое, как змея, слово “предатель”. Но на предателя он не походил никак – этакий толстый, добродушно-унылый человек, молчаливо скитающийся по комнатам нашего почти опустевшего дома. Я хорошо помню, как он вздрагивал при каждом выстреле, как подавленно говорил: “Боже мой, боже мой, чем же это кончится?!” Как все остальное время сидел в углу дивана с книжкой в руках, но не читал, а глядел поверх нее, на противоположную стену. Ему не доверяли, при нем не разговаривали. Мать говорила про него: “Предатель”, отец говорил про него: “Шкурник”, а я украдкой смотрел в его круглые ореховые глаза и думал: “Так вот какие бывают шкурники!” Затем события пошли с невероятной быстротой. На меня сразу свалились смерть отца, убийство и самоубийство в нашем доме, пожар…
А дальше началась Восточная война, и все завертелось так, что я сразу потерял счет времени и событиям. Тут я впервые услышал, как затрещала по всем швам гитлеровская империя. Наш город, как находящийся в глубоком тылу, еще не бомбили, и поэтому война чувствовалась здесь меньше, чем везде, но меньше – это еще не мало вообще. Война нависала над нами, как грозовая туча. Город заполняли беженцы с запада и раненые с востока, и там, где они жили, лежали или останавливались, постоянно шел разговор о таких страшных вещах, как ковровая и утюжная бомбежка, о том, что в городе стоят кварталы черных развалин, что людей заваливает в бомбоубежищах и они гибнут там. Рассказывали, как из зоопарка после бомбежки вырвались звери и метались по улицам. Они бежали не от людей, а к людям, и, скажем, медведь ревел и тряс лапой, страус махал обожженным крылом, а слон становился на колени, поднимал хобот и жалобно трубил. Но что могли сделать люди, когда и под ними горела земля? А коралловый аспид, очень ядовитая и красивая змея, похожая на красное и черное ожерелье, по пожарной лестнице заползла на шестой этаж и смиренно свернулась под чьей-то кроватью. И в этих рассказах о развалинах больших городов, об улицах, где ползают африканские гады и трубят умирающие слоны, было что-то и от Уэллса, и от апокалипсиса – в общем, от легенд о конце мира и тотальной гибели человечества. Очень страшно было слушать также о том, как налетают самолеты. Вдруг начинают сразу гудеть все сирены, воют, воют, воют, люди, как крысы, шмыгают сразу в подполье, а те летят волнами – две, три, бог знает сколько тысяч, – гудят, гремят и аккуратно выжигают квартал за кварталом. Вот тогда-то от прямого попадания зажигалки и сгорел наш институт. Я хорошо помню эти дни. В подвалы набивалось столько народу, что ни встать ни сесть; раз один старичок-аптекарь умер от инфаркта, и труп его продолжал стоять, так как был со всех сторон зажат живыми людьми.
Шептались о русских снегах, о партизанах, о смерти Кубе и покушении на Гитлера, о том, как под ударами Советской армии трещит Восточный фронт, как пала европейская крепость и что одна только надежда у гитлеровцев Neue Waffe – новое оружие – панацея от всех болезней и бед. Уже по тому, как произносились эти слова, можно было понять, с кем ты имеешь дело. Один говорил и сам улыбался, и тогда я отлично понимал: “Какое там к дьяволу новое оружие! Ничего им не поможет! Оружие-то новое, да обезьяна старая (по-немецки это получается очень складно: «Neue Waffe und altte Affe»)”.
Другие произносили эти два слова с угрозой. “Посмотрим, – словно говорили они, – посмотрим, господа, что останется от Лондона и Парижа! Посмотрим, что будет на месте Москвы! Яма с зеленой водой и лягушками”.
Были и третьи – паникеры. Они произносили эти слова шепотом и заглядывали в лицо: они всего боялись.
Четвертые делали значительные физиономии: “Я не знаю, конечно, что это за штука – новое оружие, но я слышал один разговор в бомбоубежище, – говорил очень сведущий человек, очень сведущий! – Это ужасно, ужасно! Бедные матери, бедные их дети!” Пятые – сразу же в крик: “Когда же, господа хорошие, когда же?! Ведь мы сгорим, как моль, пока вы там раскачиваетесь!”
“Но оно обязательно появится”, – отвечали им шестые, и это была самая тупая, но зато и самая стойкая публика – столпы империи! И оно действительно появлялось, и оказывалось то сверхмощным танком “тигр”, то сверхманевренным танком “пантера”, то фаустпатроном. Все эти “фаусты”, “пантеры”, “тигры” должны были кончить войну еще в этом сезоне, а она тянулась, тянулась, тянулась неизвестно куда, и все меньше оставалось земли, куда можно было попятиться. А потом появлялась очередная еженедельная статья Геббельса, и все понимали, что новое оружие еще впереди, еще о нем надо гадать и гадать. А что конец не за горами, чувствовали все. Ужасны были мелочи, говорящие о конце. Например, в магазинах появилось мясо диких коз и кабанов – за килограммный талон два килограмма. Знаменитая “Мадонна” была скатана в трубку и тщательно упакована, а памятники забиты в ящики, спрятаны в подвалы, зарыты. Ходить после десяти часов по улицам запретили. Ползли слухи о шпионах. В окрестные леса будто бы сбросили парашютистов. И было, например, такое: в кафе “Лорелея” один офицер на глазах у публики застрелил другого – встал из-за столика, подошел к другому и бабахнул в затылок полковнику, который сидел и читал газету. А потом оказалось, что все это шпионское дело, – только неясно, кто из двоих шпион: убитый или убийца?
Вдруг газеты сообщили: вчера гильотинированы три очень известные женщины – оказались шпионками. Еще кого-то казнили за распространение рукописных листовок, еще – за спекуляцию продовольствием и еще – за грабеж после бомбежки. Появилось страшное слово “дефатизмус” – дискредитация власти – и такие же страшные, короткие дела в полицейских судах. Жить становилось не то что страшнее (конечно, страшнее, но истощались болевые способности людей), а бессмысленнее с каждым днем. И опять-таки не то что не было уж решительно никакого выхода немецкому народу – выход был, и такой, и эдакий, – но стало ясно, что все пошло прахом. На долю одних уже досталась смерть, других еще ждут позор и разорение. Вот тут и исчез куда-то Ланэ. Потом я узнал, он не был предателем, оккупанты вывезли его в Германию. Пришла весть, что его гильотинировали в Баумцене. Это в корне меняло все дело. После победы в конференц-зале вновь отстроенного института водрузили его портрет, обвитый траурными лентами и лаврами, и вскоре в нашей городской газете я прочел некролог, подписанный всем научным коллективом нашего института: “Погиб выдающийся ученый, честнейший человек, бесстрашный борец фронта Сопротивления”. И тогда он вдруг появился сам, сильно поседевший, потерявший все зубы, немного припадающий на левую ногу – отдавили во время допросов, – но живой и в высшей степени деятельный. Он вернулся, и сразу все закипело в его руках. Теперь он был виднейшим антифашистским деятелем, крупным ученым, почетным председателем муниципального совета, одним из секретарей Партии прогрессистов. И какие речи он тогда произносил над могилами павших бойцов! На каких собраниях выступал! С какими деятелями и как фотографировался в обнимку! “Нет, еще живы старые дубы”, – говорили слушатели, расходясь после его выступлений. В отношении же ко мне он был по-прежнему старым другом моего отца, у которого я играл на коленях.