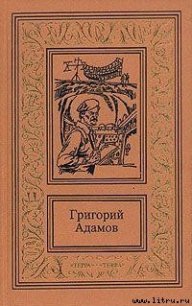Музейный роман - Ряжский Григорий Викторович (чтение книг .txt, .fb2) 📗
Ответов не было. Впрочем, и других вопросов тоже не имелось. Но, по крайней мере, теперь был ясен источник её врождённой хромоты. Да он и сам не стал того скрывать, Александр Андреевич, что невольно нажал куда-то не туда в область грудничковой шеи. Отсюда и результат. Она потом полистала, конечно же, медицинскую энциклопедию, разузнала, что сумела, про всё такое. Как, например, центральная нервная система связана с двигательной способностью, что там с этим треклятым позвоночным столбом и как его функции влияют на подвижность конечностей. Ну и разное ещё, со всем этим неразрывно связанное. Одним словом, перемена климата была как нельзя кстати. Да и надоело всё, если честно. «Культурный» канал по наскучившему январскому безрыбью привычно безмолвствовал, будто все чуждые любому варварству зрители разом бросили насиженные места, перейдя на соседние каналы, вещающие исключительно для пошлых и малообразованных обывателей. В результате ни там, ни по спортивному каналу никакой тебе самбы, как и ни румбы и ча-ча-чи, по каким соскучилась, просто сил нет. А ведь это была подпитка, словно одним махом принимала сотку-другую доброго коньяку на девичью грудь, хоть в жизни его не пила и даже вкуса не пробовала. Но так виделось и именно так порой мечталось. Приняла — и вперёд, с выходом, эротично подобрав под себя воображаемые тонкие юбки, изящно изогнув стопу, заведя одну руку за голову, другой всё ещё поддерживая юбочный край, дотянутый до середины бедра… ча-ча-ча… ча-ча-ча… ча-ча-ча… на раз-два — раз-два-три-четыре… раз-два — раз-два-три-четыре… и потом, сменив положение тела и рук, — моментальный переход в самба-но-пе, а затем — в самба-аше и сразу же, с опережением мысли, успев в долю секунды переключиться телом, но ещё не успевая перейти рассудком, — в самба-регги.
На работе был полный мрак, если именно так определять сумасшедший дом, в который, чтоб совсем уж понятно, превращается провинциальная, скажем, больничка в разгар сезона волчьих ягод и бешеных собак. Все шесть залов, отведённых под экспозицию Венигса плюс три великих в пяти шедеврах, были решительно не готовы. Шла развеска, причём даже не в конечной стадии. Командовал Темницкий, первый зам Всесвятской по науке. Он появлялся то тут, то там, мелькая в проходах между залами и давая отрывистые команды. Выяснилось, что то ли окантовка где-то не соответствовала уровню рисовальных шедевров, то ли стекло, прижимающее величайших ото всех народов и времён, не годилось качеством прозрачности или толщиной, не попадая в международные стандарты для экспозиций, замахнувшихся на звучание в мировом масштабе. Ева Александровна не слишком в этом разбиралась. Ей было наказано дефилировать вдоль линии развесочных работ от первого зала до шестого, примечать всякие нестыковки типа нехватки верёвок для развески или возникновения лишнего мусора, мешающего энергичному ходу приготовительных дел. Ну и всякое такое. А если нужно, то живым участием способствовать ускорению любой культурной операции.
А вообще, её особо не трогали, всё было как всегда. Участие смотрителя Ива`новой ограничивалось лишь внимательным неспешным хождением по указанному маршруту и в промежутках между ходьбой попеременным сидением на стульях тут и там. Она к тому привыкла, да и что взять с увечной подсобницы слабейшего пола?
Это был первый день, самый напряжённый. Однако в день последний, сразу перед открытием, всё вдруг неожиданно пришло в норму, разгладилось и утряслось. Мусор вынесли, полы подмели, смотрительские стулья разнесли по положенным местам. И стало вдруг мирно и тихо, если не считать последних контрольных и совсем уже не сердитых реплик отдельных припозднившихся работников.
За пару дней до финальной стадии готовности объявилась Качалкина. Не выдержала. Тем более что уже нужна была по делу, как и остальные смотрители. Всё уже висело на местах, разве что не было людей. И тогда пошла Ева Александровна по кругу, пока никто не мешал и можно было не спешить. Да и опасность столкнуться с кем-либо практически отсутствовала. Это было её первое знакомство с рисунками великих от пяти последних веков. Она неспешно передвигалась, неровно дыша, впиваясь взглядом в них, о чьих шедеврах слышала и даже знала, правда не в этой удивительной технике. То была живопись. Здесь же царил карандаш, перо, уголь. Но поначалу отстояла час или около того у пяти величайших живописцев, приобщённых к собранию Венигса. И все они пришлись на её третий зал. С них и начала, последовательно обойдя два полных периметра — по часовой и против. Сначала надышалась Гойей, сразу вслед за ним — Рафаэлем. Под финал — Делакруа. Всё из Дрезденской, уже давно никто того не скрывал. У последнего задержалась. Картина называлась «Баррикады разбирают». Между делом взялась рукой за раму, подержалась, вслушалась в неслышные биения, идущие, зовущие изнутри. Завела руку на задник, насколько получится, потёрла там подушечками пальцев, прикрыла глаза. И тут же пошла… пошла картинка, какую ждала, какую тайно рассчитывала увидеть, успеть, пока не началось завтрашнее столпотворение. И вот же он, вот, возмужавший д’Артаньян, именно таким она его себе и представляла: очень по-мужски выправленные усики, при лёгкой пышности, но не раскидистые чрезмерно, без всякой карикатурности, какая нередко случается у красавцев. Чуть волнистый чёрный волос, прядью упавший на глаза и стекающий чуть ниже начала шеи. Подбородок с жёсткой ямкой, волевой бесстрашный взгляд. Тёмный сюртук с бархатным лацканом, зеленоватая жилетка мягкого материала, шёлковый шарфик, затянутый у горла бантом. Да, это он, один из великих, хотя и невозвратно краденый.
Делакруа был последний из трёх, тянувшихся один за другим вдоль восточной стены третьего зала. Далее стена заканчивалась и после небольшого прогала начинались рисунки: из тех, что также пришлись на её зал. Первым в очерёдности шёл Пуссен, сразу после него — Фрагонар, на равном расстоянии по другую сторону от Пуссена расположился Ватто, уже чуть большего формата. Затем вновь возникал прогал, после которого тянулась новая тройка: Вермеер, Рубенс, Ван Дейк. Это была программа примерно на час для личного отсмотра ведьмой Ивáновой, если не спешить, если вдумчиво всматриваться в сюжет, в линию, в деталь и представлять себе мастера. То, как корпел он над бумажным листом, как страдал и сомневался, как сбивался мыслью своею. И как вновь обретал вдруг вдохновенье и сидел, сидел, трудился, временами вовсе не отрывая от листа руки, не выпуская из неё инструмент, созидающий очередное величайшее творенье человеческого разума и мастерства.
Поспешая, Ева Александровна оторвалась от «Баррикад», перешла к другой стене. Протянула руку, коснулась Яна Вермеера, его «Кружевницы, пишущей письмо», 1667 года. Прикрыла глаза, вслушалась, ища картинки — той самой, вызванной из глубины веков, всплывающей в воздухе перед другими глазами её, расположенными где-то позади затылка. Однако было пусто и неотзывно. И то было странно. Она завела руку под рисунок, потёрла там пальцами, как чуть раньше проделала с Делакруа. Но и на этот раз ей был отказ. Более того, художник не просто не отзывался, он словно сопротивлялся собственным смотринам, хотя явно и был живописцем, это она тоже ощутила. Что-то было не так, ничто не складывалось в цельную картину. Нечто мешало, и самым нешуточным образом. Что-то разламывалось на глазах, не становясь тем единственно художественным, на которое рассчитывало её ведьминское нутро. Работа, что располагалась перед ней, совершенно очевидно была рисунком, выполненным века назад. Однако рисунок не отзывался, никак, совсем. Такое за её жизнь было лишь однажды, с тем «могильным» Шагалом, которого накоротке пронесли мимо неё и от которого точно так же не исходил нужный импульс. Здесь было похоже, но и не совсем. Нечто чужеродное вклинивалось в промежуток между далёкими веками и днём сегодняшним, сопротивляясь Евиным потугам высечь колдовскую искру из листа состарившейся бумаги, несущей на себе следы чьей-то руки, чьего-то грифеля.
Она замерла, стараясь уже насильно, насколько получится, соединиться с прошлым, хотя бы с малой частичкой, угадав его слабый отзвук через дуновение пыли, запах краски, едва уловимое дыхание самого творца. Что-то мелькнуло в воздухе на мгновенье, затем сполохнуло малой искрой, но тут же отступило обратно. «Померещилось… — подумалось ей, — нужно повторить ещё…» Сжав кулаки, она прикрыла веки, максимально пытаясь втянуть в себя воздух ускользающей эпохи, саму прозрачность его, слиться на миг с колебанием теней, идущих от любого призрака оттуда, но обитающего поблизости. Либо же самой войти к нему. У неё бывало и так и эдак, и всякий раз было неясно, какая из смутных догадок срабатывает. Но было уже без разницы, нужен был лишь результат, плод, но никак не очередное пустопорожнее исследование глубин своего необъяснимого дара.