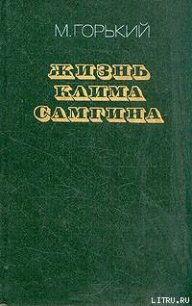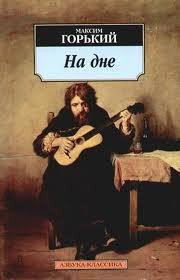Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
– Доктора надо, Варя. Я – боюсь. Какое безумие, – шептал он и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул.
– Безумие, – повторил он. – Зачем осложнять...
Слезы текли скупо из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства, и хотя это было постыдно, а – хорошо: под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему, он слышал прерывистый шопот:
– Спасибо, милый! Как это хорошо, – твои слезы. Ты не бойся, это не опасно...
Пальцы ее все глубже зарывались в его волосы, крепче гладили кожу шеи, щеки.
– Я не хотела стеснять тебя. Ты – большой человек... необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь?
– Не говори, – попросил Клим. – Тебе очень больно?
– Нет... Но я – устала. Родной мой, все ничтожно, если ты меня любишь. А я теперь знаю – любишь, да?
– Да.
– Ты не позволил бы аборт, если б я спросила?
– Конечно, – сказал Клим, подняв голову. – Разумеется, не позволил бы. Такой риск! И – что же, ребенок? Это... естественно.
Он говорил шопотом, – казалось, что так лучше слышишь настоящего себя, а если заговоришь громко...
Варвара глубоко вздохнула.
– Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала, ушиблась. И ей и Гогиной, когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку, она завтра придет...
Она как будто начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно, точно она вышла из комнаты, и Самгин снова почувствовал холод испуга. Посидев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой.
В раме окна серпик луны, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин, стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя:
«Так ли все это?»
И снова понял, что это – недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи – хорошие, радостные.
«Она меня серьезно любит, это – ясно. Я был несправедлив к ней. Но – мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство-праздничное. Тогда, на даче, стоя пред Лидией на коленях, я не ошибался, ничего не выдумал. И Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала».
Рука, взвешенная в воздухе, устала, он сунул ее в карман и сел у стола.
«Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны. Это надо оценить».
Неловко было вспомнить о том, что он плакал.
«Конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствия, независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая...»
Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной.
– Тише – Варя нездорова!
– Ой, что это? – наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шопотом. – Не выкидыш ли, храни бог?
Клим встал, надел очки, посмотрел в маленькие, умные глазки на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать.
– Ну, что за глупости! Почему...
– А – кровью пахнет? – шевеля ноздрями, сказала Анфимьевна, и прежде, чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, а от локтей подняты, как на иконе Знамения Абалацкой богоматери, короткие, железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела:
– Ну, уж если это ты посоветовал ей... так я уж и не знаю, что сказать, – извини!
Так, с поднятыми руками, она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на ты, постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому, тугому лицу ее текли маленькие слезы.
– Я ничего не знал, она сама решила, – тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых на мешки ее полуобнаженных грудей капали эти необыкновенные маленькие слезинки.
– Ой, глупая, ой – модница! А я-то думала – вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним. Кухню-то бросила бы. Эх, Клим Иваныч, милый! Незаконно вы все живете... И люблю я вас, а – незаконно!
И – встала, заботливо спрашивая:
– Не спал ночь-то? Клим схватил ее руку.
– Я – хочу, – пробормотал, он, внезапно охмелев от волнения, – руку пожать вам, уважаю я вас...
– Что уж, руку-то, – вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав:
– Эх, дети вы, дети... Чужого бога дети!
Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался:
«Веду я себя – смешно».
И чувствовал себя в радости, оттого что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет.
Наступили удивительные дни. Все стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людями как-то по-новому мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться недружелюбно. Вот она сидит у постели Варвары, положив ногу на ногу, покачивая ногой, и задорным голосом говорит о Суслове:
– Не выношу ригористов, чиновников и вообще кубически обтесанных людей. Он вчера убеждал меня, что Якубовичу-Мельшину, революционеру и каторжанину, не следовало переводить Бодлера, а он должен был переводить ямбы Поля Луи Курье. Ужас!
– Узость, – любезно поправил Клим, – Проповедник обязан быть узким...
– Не знаю, – сказала Гогина. – Но я много видела и вижу этих ветеранов революции. Романтизм у них выхолощен, и осталась на месте его мелкая, личная злость. Посмотрите, как они не хотят понять молодых марксистов, именно – не хотят.
Варвара утомленно закрыла глаза, а когда она закрывала их, ее бескровное лицо становилось жутким. Самгин тихонько дотронулся до руки Татьяны и, мигнув ей на дверь, встал. В столовой девушка начала расспрашивать, как это и откуда упала Варвара, был ли доктор и что сказал. Вопросы ее следовали один за другим, и прежде, чем Самгин мог ответить, Варвара окрикнула его. Он вошел, затворив за собою дверь, тогда она, взяв руку его, улыбаясь обескровленными губами, спросила тихонько:
– Можно мне покапризничать? Он кивнул головою, тоже улыбаясь.
– Не говори с Таней много, она – хитрая.
– Не буду, – обещал он, подняв руку, как для присяги, и, гладя волосы ее, сообщил:
– Каприс по-латыни, если не ошибаюсь, – прыгать, подпрыгивать. Капра – коза.
Подождав, не скажет ли она еще что-нибудь, он спросил:
– О чем думаешь?
– О справедливости, – сказала Варвара, вздохнув. – Что есть только одна справедливость – любовь. Клим Самгин заговорил с внезапной решимостью:
– Сдам экзамены, и – поедем к моей матери. Если хочешь – обвенчаемся там. Хочешь?
Лежа неподвижно, она промолчала, но Клим видел, что сквозь ее длинные ресницы сияют тонкие лучики. И, увлекаясь своим великодушием, он продолжал:
– Потом – поедем по Оке, по Волге. В Крым – хорошо?
Болезненно охнув, Варвара приподнялась, схватила его руку и, прижав ее ко груди своей, сказала:
– Все равно, – пойми!
– Не волнуйся, – попросил он, снова гордясь тем, что вызвал такое чувство. Недели через три он думал:
«Вот – мой медовый месяц».
Он имел право думать так не только потому, что Варвара, оправясь и весело похорошев, загорелась нежной и жадной, но все-таки не отягчающей его страстью, но и потому еще, что в ее отношении явилось еще более заботливости о нем, заботливости настолько трогательной, что он даже сказал:
– А ведь ты, Варя, могла бы быть удивительно нежной матерью.
Была средина мая. Стаи галок носились над Петровским парком, зеркало пруда отражало голубое небо и облака, похожие на взбитые сливки; теплый ветер помогал солнцу зажигать на листве деревьев зеленые огоньки. И такие же огоньки светились в глазах Варвары.