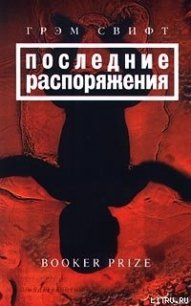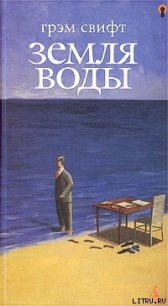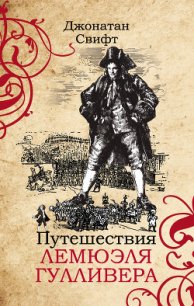Свет дня - Свифт Грэм (полные книги TXT) 📗
42
Ее глаза сегодня глядят сквозь меня, точно на кого-то другого, дальнего.
Спрашивает:
– Ты был?
– Конечно. И цветы положил. Розы. Роскошный день выдался.
И это, конечно, кажется ошибкой. Вдвойне: и сказать такое, и сам факт. Роскошный день, как по заказу.
Как она его переживет?
На лбу желвачок, тугой, как вопросительный знак. Она всматривается в мое лицо. При этом в глазах какая-то стеснительность, уголок рта стыдливо поджат, как будто она хочет сказать: знаю, Джордж, что это нелепость, знаю, что я дура, но...
И, может быть, она думает то же, что и я: примерно так было и два года назад. Она дала мне поручение и хотела знать, как я его выполнил.
Что мне сказать? Депеши от него нет, я пришел не как его посланник. Просто пришел к тебе на свидание, как в обычный день.
– Выглядело все... нормально. Выглядело... так же.
Что мне сказать? Что он остался на месте? Что он никуда оттуда не собирается? Что он заверил меня: мол, буду тоже вечно ждать?
И я знаю, что она не верит в призраков. По крайней мере в обычные дни.
Однажды сказала: «Преследует? Одержима? Нет, это слишком простые слова. Что-то другое со мной...»
Но она бывает с ним в сновидениях – я знаю, она мне говорила. С Бобом, хотя он мертв, хотя она сама же его и убила. Это, пока она не проснулась, кажется несущественным обстоятельством.
А я бываю в сновидениях с Сарой – в моих сновидениях и в ее (она мне говорила), – хотя она здесь, в тюрьме, что тоже кажется несущественным. Здесь мы едва можем коснуться друг друга.
В сновидениях нет запертых дверей.
Говорю:
– Я там стоял, сердце мое. Я не могу за него ничего сказать. И сам он не может.
Это чуть ли не жестоко – как объяснять что-то страшное ребенку. Обычно, наоборот, она моя учительница, а я ребенок, мальчик, посещающий эту специальную школу.
– Я довольно долго там простоял.
(Дал ему время, дал ему шанс.)
Я очень хорошо знаю, какое слово она хочет услышать – или что-то похожее, близкое, хоть обещание, хоть намек. И она знает, очень хорошо знает, что ничего не услышит.
И видит Бог, хотя кое-кто может заявить, что она полностью исключила такую возможность (да и какое, собственно, преступление он совершил?), она его простила.
Но я не могу сказать это за него. Могу только сказать, и сказал, что сам ее простил. Тысячи людей не простили бы, а я простил. Тысячу раз.
И видит Бог, жертвы убийств всегда вызывали у меня мысль (а я немало их повидал): с какой стати, если оживет, должен когда-либо прощать? И оставшиеся в живых, покалеченные, но способные говорить: с какой стати должны когда-либо прощать?
С какой стати Патель должен простить Дайсона или меня?
– Это всего-навсего могила, сердце мое. Я там постоял.
Уголок рта поджимается сильнее. Чего она ожидала?
Ни решетки, ни барьера. Голый стол, привинченные к полу стулья. Можно коснуться друг друга, можно обняться. Раз в две недели – объятие. Разумеется, не наедине, в той же комнате все остальные, и за вами наблюдают. Надзорки могут видеть каждое твое движение, слышать, если захотят, каждое слово. Работает видеокамера. Но через какое-то время это перестает мешать. В общем-то похоже на посещение кого-то в больнице. Можно попросить чашку чаю. У некоторых коек оживленные разговоры, у других не знают, что сказать.
Игровая зона для детишек. Плач младенцев. Некоторые прямо здесь и живут. Больница, ясли... Можно и обознаться.
Она не сдается. Спрашивает:
– Но как по-твоему!
Что мне сказать – что, по-моему, надгробие выглядело не таким твердым, не таким каменным, не таким неумолимым?
Или сказать: «Я его ненавидел. Немножко. И даже больше чем немножко. У меня был этот... дрянной вкус во рту». Знает, что я думаю именно это. И как ей меня винить – ей, которая его убила, – за то, что я всего-навсего молча его ненавижу?
– Я подумал: жаль, что тебя тут нет. Тут, около меня.
Уголок рта расслабляется. Еле заметная улыбка. Призрак улыбки.
– Я там была. Ты это знаешь.
Вот как мы сейчас про все разговариваем. Соглашение своего рода.
– Было очень... ясно и тихо. Деревья, листва... Сущая нелепость – верить в призраков в такой солнечный, ясный день. Но я чуть ли не желал, чтобы они существовали, – тогда он мог бы явиться и сказать, как всякий уважающий себя мертвый муж, которому позволили выйти из могилы: «Все нормально, любите друг друга. Я вам не помеха».
Она может улыбаться – даже сегодня. Похоже, я унаследовал папашин талант. Кто бы мог подумать.
Не всегда, конечно, улыбалась. Место не слишком располагает. Сотри улыбку с лица. Улыбка у нее вернулась, как пульс у тяжелобольного. Однажды, вдруг, в один ошеломляющий день.
Спрашивает:
– А ты сказал что-нибудь, Джордж? Ему.
– Сказал: «Эти цветы от Сары. С любовью».
Я действительно это сказал (наряду со всем остальным, что произнес про себя).
Опять смотрит сквозь меня.
Но если бы он и вправду ожил – вот посмеялся бы! Все нормально, она твоя, действуй! Обхохочешься.
Или просто молчал бы и знал свое место. Призрак, тень, идеальный детектив. Наблюдал бы, а мы и понятия бы не имели.
Надзорки стоят вокруг, свистки наготове, как будто присматривают за детьми на детской площадке. Но это не игра. Эти свидания – эти улыбки – как щели в стене, сквозь которые просвечивает мир. Тюрьма – она ведь тоже уничтожает ауру. Мои глотки воздуха, запах холодного ослепительного ноябрьского дня от моей одежды, от моих волос. Хочешь многого – довольствуйся малым.
– Я не сразу ушел. У меня было много времени. Посидел там на скамейке на солнце. Сидел и думал...
Я никогда не рассказывал Саре про своих родителей, про отца и миссис Фримен. Ведь это ничем таким не кончилось, никто не получил ножом в сердце. Только моя мать – именем.
И сейчас я не делюсь с ней своими мыслями о супружеских парах. О том, что когда один из двоих умирает, все слова об упокоении по меньшей мере сомнительны...
– Я сидел там и... делал то же, что и ты, сердце мое. То же, что и ты сегодня с самого утра.
Она не спрашивает, понимает. Я прокручивал его во всех мелочах, этот день два года назад. Дотошно его разбирал, как на допросе. Каждый шаг, каждое движение. Просматривал его заново, как фильм.