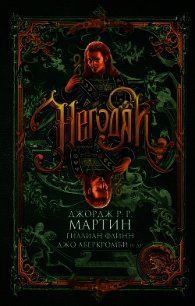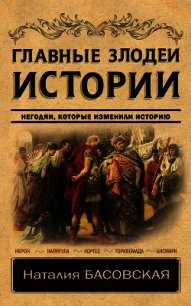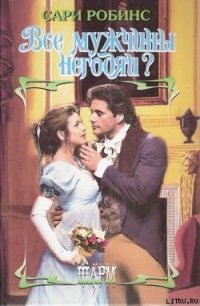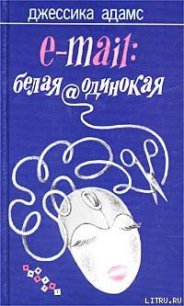Предсказание будущего - Пьецух Вячеслав Алексеевич (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
— Я что-то не соображу: а что ему, собственно, известно-то? — спросил я.
— Не знаю, — сказала Ольга. — Возможно, он понимает, что означает — жить.
— Судя по Сашиной комнате, я бы этого не сказал.
— Нет, просто с первого раза Сашу не раскусить. Ведь вы почти ничего про него не знаете, а я знаю. Мне кажется, что здесь кроется именно какая-то пугающая осведомленность — он поэтому и величавый такой, как египетские пирамиды. Например, для Саши не существует вопроса «ну и что?».
— Это что еще за вопрос?
— Ну как вам объяснить… Это такой неизбежный вопрос, который возникает, если попытаться осмыслить любое действие человека. Так бывает, когда купишь чего-нибудь, с кем-нибудь познакомишься или прочитаешь плохую книгу: закроешь ее и сразу подумаешь — ну и что? Так вот, для Саши этого вопроса не существует. Что бы он ни делал, по-моему, имеет строгое назначение. Хотя делает он с первого взгляда довольно странные вещи. Например, он питается одним пшенным концентратом, спит три часа в сутки и обязательно в ванной, нальет в нее теплой воды и спит.
— Послушайте, — сказал я. — А может быть, ваш Саша просто немного того?..
— Признаться, сначала я и сама так думала. Но потом я решила, что если он и того, так это не причина, а как раз следствие. Потом ведь его странности не такие уж и странности. Разного рода пунктики есть у всех. Вот я, например, все время слышу музыку, ну, не все время, а очень часто. В метро, на улице, когда в ванной моюсь — слышу музыку, и все тут! И у вас, наверное, есть свои странности, потому что каждый мыслящий и сострадательный человек обязательно до какой-нибудь странности доживется.
— Да нет, — отозвался я и пожал плечами, — кажется, никаких особенных странностей я за собою не замечал.
Оля пристально посмотрела мне в глаза и начала теребить перчатку.
— Ну и слава богу, — сказала она. — А я бы, кажется, согласилась стать форменной сумасшедшей, только бы каждый вечер, ложась спать и думая о конченном дне, не говорить себе «ну и что». Или отец прав и нужно просто выходить замуж…
Кончился Чистопрудненский бульвар, и мы оказались перед металлическим Грибоедовым, который был точно лакированным от сырости и тускло отражал огни уличных фонарей.
— Ну, давайте прощаться, — сказала Оля.
Я протянул ей руку, и она вложила в нее свою.
— Вы только не думайте, что я обыкновенная психопатка. Я просто мучаюсь потому, что не пойму, к чему это все. А кроме того, я еще и искательница несчастий…
Сказав это, Оля как-то нехорошо на меня посмотрела и направилась к станции метро «Кировская».
Когда Ольга ушла, я присел на первую попавшуюся скамейку и принялся размышлять о том, что открылось мне в этот вечер, стремясь привести сведения к общему знаменателю. Однако откровения этого вечера были настолько сложны и многозначительны, что я смог прийти только к слишком общему, хотя и интригующему знаменателю: когда кончается эпоха внешних недоразумений, начинается эпоха внутренних…
Вдруг кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся: передо мной стоял мужик в женском пальто и в шапке с опущенными ушами.
— Слушай, братишка, — сказал он низким голосом о хрипотцой, — одолжи пятнадцать копеек? Пятнадцать копеек, понимаешь, не хватает до полного благоденствия…
Я порылся в карманах и дал ему пятнадцать копеек.
Глава VIII
1
Прежде чем со всей полнотой и силой на меня навалились следствия 4 февраля, в конце концов приведшие к одной фантасмагорической неприятности, как и полагается перед бурей, наступило некоторое затишье. Поскольку Саша и Оля Иовы в тот вечер навели меня на некоторые изящные прозрения и подозрения, период затишья прошел под знаком литературы. Правда, в течение этого периода мною не было написано ни строки, но зато я многое передумал. Скажем, как-то на ночь глядя я сел готовиться к урокам на завтра, но вместо этого нечаянно размечтался о художественном значении наследственного кошмара. Я думал, думал, потом мысли мои начали путаться, и в конце концов я поймал себя на том, что воображаю взятие Бухары. Тогда я очнулся и посмотрел на часы: был третий час ночи. Наутро я пошел в школу неприготовленным, и это был первый случай за всю мою учительскую карьеру.
В период затишья я окончательно выработал план романа. В техническом отношении он у меня делился на три самостоятельные части, не считая пролога и эпилога. В первой части я намеревался подробнейшим образом изложить биографию Владимира Ивановича Иова с акцентом на тенденциях, склоняющихся к будущему, во второй — показать теперешнюю жизнь моего героя, напирая на подспудные переворотные направления, а в третьей — описать Сашу и Олю Иовых в качестве носителей будущего в себе.
В школе же за это время — почему я и называю его временем затишья перед бурей — ничего существенного не стряслось. Валентина Александровна вообще перестала меня замечать, точно я уже был уволен, сукин сын Богомолов написал в Центральный Совет пионерской организации жалобу на Бумазейнова, который давеча отказывался вступать в пионеры, и своим чередом шла наша история с Наташей Карамзиной.
На беду, эта история начинала принимать угрожающие черты. В тот день, когда я явился в школу неприготовленным, Наташа ждала меня неподалеку от учительской раздевалки.
— Это непедагогично, — сказала она с горькой улыбкой. — Это непедагогично обманывать детей. Отчего вы не пришли?
Первым делом я испуганно огляделся по сторонам, высматривая, нет ли поблизости Богомолова, и затем пробормотал несколько оправдательных фраз, сославшись на семейные обстоятельства. Наташа в другой раз горько улыбнулась, и под давлением этой улыбки я был вынужден назначить объяснение «на сразу после уроков». По правде говоря, до этого времени я понадеялся улизнуть.
Я не учел того, что последний по расписанию урок был как раз в моем классе, и поэтому улизнуть от Наташи было практически невозможно. Впрочем, к тому времени, когда подоспел последний урок, я напал на какой-никакой выход из положения: я решил с Наташей исподволь объясниться; как раз в тот день у меня была запланирована десятиминутная конференция по внеклассному чтению, а поскольку обсуждению подлежал отрывок из «Красного и черного», я придумал, основываясь на стендалевском любвеобильном материале, таким образом высказаться вообще о любви, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. В том, что Наташа меня поймет, я нисколько не сомневался.
На последнем уроке, когда дело дошло до «Красного и черного», я сказал:
— Ну, граждане, как вам показался Стендаль в оригинале?
— Стендаль есть Стендаль, что в оригинале, что в переводе, — сказала Зоя Петрова, крохотная девочка в роговых очках. — Про такую сказочную любовь я бы и по-китайски с удовольствием прочитала.
— А по-моему, Стендаль мелочный писатель, — сказал астматик Аристархов, — и книги его мелочные. Ну про что, собственно, это самое «Красное и черное»? Про то, как выскочка и проходимец делал себе карьеру и как его погубила его же собственная жестокость. При чем тут сказочная любовь!..
— А при том, что карьера — это всего лишь фон, — сказала Наташа Карамзина, — и все дело именно в любви, единственном, ради чего стоит жить и ради чего стоит писать романы. И ты, Аристархов, дубина, если ты этого не понимаешь.
— Попрошу без личностей, — сказал Аристархов и обиженно улыбнулся.
— А то место, где Матильда едет голову хоронить, — сказала Зоя Петрова, — это просто апофеоз! Вот это любовь, вот это я понимаю!
— И все-таки Стендаль мелочный писатель, — настаивал на своем Аристархов, — неудивительно, что Гюго называл его дилетантом. Подумаешь, про похороны головы написал! Вот если бы он дал широкую картину идейной жизни или вывел какой-нибудь новый тип — тогда да. А то у них там революция надвигается, а он описывает страдания психопатов…
Тогда я сказал:
— Боюсь, Аристархов, что вы не правы; есть у Стендаля и широкая картина идейной жизни, и новый тип. Впрочем, я понимаю, что вас настораживает масштаб; масштаб действительно не общечеловеческий, масштаб, прямо скажем, местный, но это еще ничего не значит. То есть это отнюдь не значит, что отличный роман отличного писателя заслуживает такой вероломной критики. Видите ли, все дело в том, что мы избалованы родной классической литературой, где что ни писатель — то материк, где чуть ли не каждое имя — это новая идейная система, по крайней мере новое направление. Конечно, переживания Жюльена Сореля не идут ни в какое сравнение с духовной трагедией Родиона Раскольникова, но это не должно нас склонять к губернскому патриотизму, потому что просто разная жизнь рождает разную литературу. Это точно так же, как разные животные рождают разных детенышей, и детеныш слонихи нисколько не лучше детеныша дикобраза из-за того, что он больше, — он просто больше. Русская жизнь была чрезвычайно сложной, и поэтому чрезвычайно сложной была русская литература. До такой, то есть, степени сложной, что у нас нет ни одного великого романа именно о любви. Великих романов много, а именно о любви нет ни одного. Как ни странно это для вас прозвучит, но тема любви оказалась слишком мелкой, не соответствующей мощностям русской литературы. Поэтому наши великие романы о любви вообще: о любви к человеку, к родной земле, к духовному образу жизни — словом, о любви вообще. И как раз благодаря этой направленности наша литература приобрела себе мировое имя. Потому что любовь вообще неизмеримо выше любви в частности; это уже что-то конечное, завершающее круг гармонии, дальше которой не может быть ничего. Наверное, такая постановка вопроса вам покажется странной, поскольку вы сейчас находитесь на той стадии роста, когда человеку доступна только, так сказать, фрагментированная любовь, например, любовь к какому-то юноше или какой-то девушке, которая у вас потому и приобретает такую мучительную остроту, что всегда больнее прищемить палец, нежели упасть с третьего этажа. Это, конечно, сильное и прекрасное чувство, крайне необходимое на известном этапе психического развития, но вот какая штука: когда человек достигает зрелого возраста, то есть становится человеком не по принадлежности к виду, а по существу, тогда способность к фрагментированной любви покидает его в девяносто девяти случаях из ста. Знаете, почему это происходит? Потому что превращение в человека — это, по сути дела, приобщение к любви вообще, к любви, как состоянию духовного организма, которое объединяет человека с людьми, а людей с миром. Поверьте на слово: это тоже прекрасное чувство, да еще не мучительное, а светлое. Вы представить себе не можете, какая это, в сущности, благодать — уметь любить, скажем, дерево, прохожих, детей, отечество… Хотите верьте, хотите нет, но самая пылкая страсть для меня, во всяком случае, не выше любви к Аристархову, Петровой, Карамзиной…