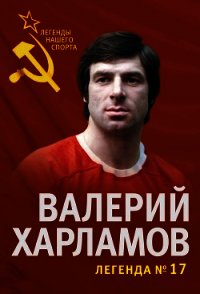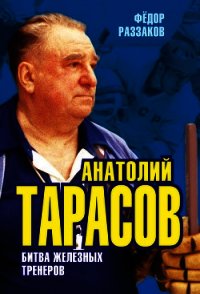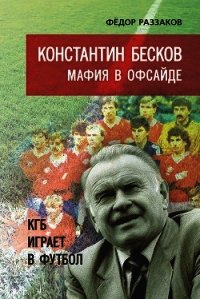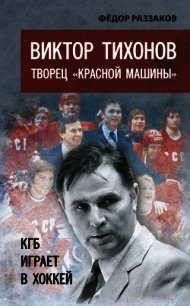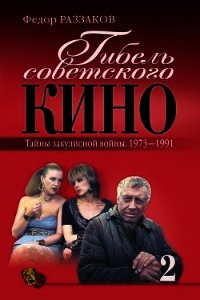Ефремовы. Без ретуши - Раззаков Федор Ибатович (книги полные версии бесплатно без регистрации txt) 📗
Кстати, в том сверхсмертоносном 1994 году из жизни уйдет и «великий старик» МХАТа Марк Прудкин. Ему было 96 лет. После этого из «великих стариков и старух» Художественного театра в живых продолжали оставаться два человека: Ангелина Степанова (94 года) и Софья Пилявская (88 лет). Но и их уход уже не за горами – остается всего лишь несколько месяцев. Впрочем, как и до ухода самого Ефремова.
Но вернемся к «русскому кресту».
Львиную долю умерших составили граждане низшего сословия, а сливки общества чувствовали себя вполне сносно. Та же творческая интеллигенция, например. Она впаривала людям суррогат вместо искусства (одних театров в постсоветской России появилось целых 200 штук, но большинство из них нельзя было назвать полноценными – это были антрепризные театры, где искусство творили на скорую руку) и объясняла, что это лучше, чем «кондовая» советская культура, где нельзя было ругаться матом и показывать гениталии. Хотя наиболее хитрые либералы вели себя не столь прямолинейно. Например, А. Смелянский заявлял следующее: «При советской власти была сплошная идеологизация. На место чудовищной идеологической требухи, промывающей людям мозги, пришла коммерческая требуха. И ее ровно столько же, сколько было раньше. Предпочитаю я ту или эту? И ту и другую НЕ предпочитаю, но это так. Хороших, настоящих, интересных имен тогда было пять-шесть, и сейчас столько же. Пропорции и объем добра и зла более-менее одинаковы…»
Вот так вот, наотмашь: «Хороших, настоящих, интересных имен тогда было пять-шесть, и сейчас столько же». Видимо, имеется в виду театр. Тот самый советский театр, который за 74 года своего существования родил на свет, по мысли Смелянского, всего лишь пять-шесть интересных имен. Все остальные – неинтересные или, того хуже, вообще не заслуживают какого-либо разбора и упоминания. Требуха, одним словом. Неудивительно, что господа смелянские (альтшулеры), победив в 90-х, в новом тысячелетии так надоели народу, что тот стал шарахаться от них как черт от ладана. Олег Ефремов эту ситуацию не застал, уйдя буквально накануне этого поворота – когда вместо прораба Ельцина пришел чекист Путин.
Но он успел застать катастрофические последствия развала СССР для культуры. И для театра в особенности. Ведь что было раньше, в Советском Союзе? Театр служил идее. Да, коммунистической, но что в ней плохого? Вспомним М. Горького: «Человек – это звучит гордо». Вот советское искусство, опираясь на коммунистическую идею, и пыталось эту гордость (а не гордыню) человеку привить. Но вся беда в том, что испорченных людей и во времена СССР хватало. Такова уж человеческая природа. Эти испорченные люди были законченными циниками, которым высокая идея о человеке (а не человечишке, как теперь) казалась ненормальной, мешала жить. Вот, например, человек – пьяница и гулена. Он бьет жену, а его за это окружающие осуждают – на суд общественный тащат. Как ему любить такую власть, за что? Или другой пример. Человек считает себя лучше, чем все остальные, в том числе и по национальному признаку. Ему претит общаться с русской «чернью», но общаться-то приходится. Вольно или невольно. Вот он и носит в душе потаенную злобу на власть, которая позволяет этой «черни» чувствовать себя хозяином жизни, гегемоном. Такой ненавистник спит и видит, когда эта власть загнется, а эта «чернь» хлебнет лиха по полной. Но долгие годы такие люди вынуждены были скрывать свое истинное лицо, подыгрывать «черни» (писать о них книги, снимать фильмы, ставить спектакли, сочинять песни и т. д.), и только с падением СССР маски были сброшены. Каждый занял свое место: избранные взмыли вверх, а «чернь» скатилась вниз. Для истинного либерала, да еще нерусского происхождения, такое время – самое желанное. Об этом, кстати, пишет в своей книге Т. Доронина, не случайно обращаясь не к кому-нибудь, а именно к А. Смелянскому. Что же она ему пишет? Читаем:
«Итак, господин Смелянский, я, будучи не такой доброй и мудрой, как моя мать, пренебрегаю неуместностью упоминания вашего имени рядом с именами моих родителей, потому что гонение на меня, которое с таким азартом охоты вы ведете столько лет, является гонением на моих родителей тоже. Вы полагали, предполагали унизить их, обозначить их никчемность и ничтожество. Кроме меня, их защитить некому. Они жили безответно и умерли безответно.
Призыв «Говори!», обозначенный в спектакле Ермоловского театра как начало гласности и один из первых знаков «демократического» правления, был всего-навсего очередным обманом, ложью. Ибо «говорить» дозволено вам и таким, как вы. Все московские «Нюры» и «Васи», презираемые вами, как чернь, быдло, как те, которые «сотни лет коров доили» (по вашему «человеколюбивому» выражению), – остались в своей отчаянной немоте и бесправии. Они уже не верят, что что-то изменится к лучшему, ибо вы лично и подобные вам делают все, чтобы «Нюрам» и «Васям» лучше не было…»
Возвращаясь к Олегу Ефремову, зададимся вопросом: что могло объединять его с Анатолием Смелянским? Только ли общий взгляд на развитие театрального искусства? Или их сближение произошло на почве общего неприятия того социализма, который был построен в СССР? Однако Ефремов был идейным борцом и долгое время верил в то, что этот социализм можно переформатировать во что-то иное, «удобоваримое». В отличие от него Смелянский олицетворял собой тип коммерсанта от искусства, для которого все имеет свою цену и который легко адаптируется при любой системе, лишь бы платили хорошие деньги (кстати, в партию он вступил со второй попытки – во время первой его подлинное нутро, видимо, раскусили). Для Ефремова деньги никогда большой роли не играли, хотя он зарабатывал неплохо и жил не бедно. Но идея для него была выше денег. Поэтому, когда с развалом СССР идея (как высший смысл) рухнула и на авансцену вышла другая идея – потреблянства, замешанная на культе денег, он, в отличие от Смелянского (или Олега Табакова – тоже коммерсанта по своей сути), растерялся. И это видно в его тогдашних спектаклях: например, в «Горе от ума» (1992). Видимо, Ефремов тогда окончательно понял, что долгие годы пилил сук, на котором сидел. Вспомним слова П. Богдановой: «Шестидесятники, получив образование и культуру от советской власти, стали ее могильщиками. Вот парадокс: власть, которая гордилась тем, что вырастила свою интеллигенцию, на самом деле вырастила себе могильщика…»
Но признаться в этом публично, в открытую у Ефремова смелости не хватило. Ведь это могло плохо отразиться на его тогдашнем положении. А он уже был стар, да и театр, видимо, хотелось передать в родственные руки – собственному сыну. А это можно было сделать только при хороших отношениях с новой властью. Поэтому в спектаклях он в завуалированном виде (как и раньше) высказывал свое интеллигентское фи режиму, но вслух об этом старался не говорить. Так, в 1997 году он поставил «Три сестры» А. Чехова. Судя по всему, это был спектакль, где Ефремов ставил финальную точку в своей идейной борьбе. Это был спектакль, где он констатировал, что все, за что он боролся (вместе со своими коллегами), оказалось напрасно и впереди – ни просвета. Что социализм рухнул, а вместо него построено черт-те что. И в этом обществе ему, Ефремову, жить уже не хочется и, значит, пора готовиться к уходу туда, откуда никто еще не возвращался. Если довоенные «Три сестры» в постановке В. Немировича-Данченко были спектаклем поэтическим, где пульсировала надежда на лучшую жизнь, то у Ефремова этой надежды нет. На кого надеяться, если почти все продались мамоне? Татьяна Доронина не продалась (она, кстати, реанимировала тот довоенный спектакль именно в интерпретации Немировича-Данченко, воспроизведя даже декорации 1940 года!), но становиться под ее знамена для Ефремова означало перечеркнуть все свои последние годы. На это у него не было ни физических сил, ни силы духа. Но должные выводы для себя Ефремов сделал. Как говорит в его спектакле полковник Вершинин: «Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить». Громадное пустое место – это тогдашняя ельцинская Россия в версии Ефремова.