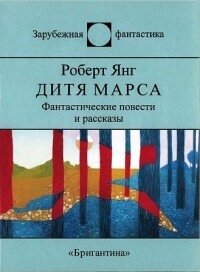Измышление одиночества - Остер Пол (читать книги без регистрации txt, fb2) 📗
Размеры его рук. Мозоли на них.
Съедал пенку с верхушки горячего шоколада.
Чай с лимоном.
Пары черных очков в роговых оправах разбросаны по дому: на кухонных стойках, на столах, на раковине в ванной – вечно раскрытые, лежат такие, словно странный биологический вид неучтенного животного.
Смотрю, как он играет в теннис.
Как у него иногда подгибались колени на ходу.
Его лицо.
Сходство с Эйбрэхэмом Линколном, и как люди всегда обращали на это внимание.
Его бесстрашие с собаками.
Его лицо. И опять – его лицо.
Тропические рыбки.
Он часто, казалось, становился рассеянным, забывал, где он, словно терял ощущение собственной непрерывности. От этого с ним случались неприятности: прибивал ногти молотком, в машине что-то ломалось.
Его рассеянность за рулем: до того, что иногда пугало. Я всегда считал, что его доконает машина.
А так со здоровьем у него все было хорошо настолько, что он казался неуязвимым, не подверженным физическим недугам, поражающим всех нас. Как будто к нему ничего не липло.
Как он говорил: словно с огромным усилием всплывал из своего одиночества, словно голос у него заржавел, утратил привычку говорить. Он всегда много экал и мекал, откашливался, казалось, он захлебывается посреди фразы. Ощущалось – весьма отчетливо, – что ему неловко.
Точно так же меня в детстве постоянно развлекало, когда он где-нибудь расписывался. Он не мог просто поднести перо к бумаге и писать. Как бы оттягивая бессознательно миг истины, он всегда изображал легкий предварительный росчерк, круговое движение в дюйме-другом от бумаги, словно в воздухе муха жужжит и примеривается к точке посадки, а уж потом приступал. Усовершенствованная версия того, как в «Новобрачных» расписывался Нортон Арта Карни [7].
Он даже слова произносил странновато. «Нау» вместо «на», к примеру, будто бы росчерк руки у него отражался и в голосе. В этом слышалось что-то музыкальное, воздушное. Когда он снимал трубку, тебя всегда приветствовало певучее «аллооу». Не столько смешно, сколько мило. Всегда казалось, что он слегка не в себе, будто не в ногу со всем остальным миром – но ненамного. Градус-два, не больше.
Неизгладимые тики.
С ним иногда случались эти его припадки чокнутого напряжения, и он вечно выдавал крайне причудливые мнения – не всерьез вообще-то, но с радостью играя в адвоката дьявола, чтоб только все шло живенько. Он дразнил людей, и у него улучшалось настроение, а после какого-нибудь особо бессмысленного замечания кому-нибудь он часто пожимал этому кому-то ногу, обязательно там, где щекотно. Ему нравились подковырки – буквально.
Опять о доме.
Сколь небрежной бы ни казалась отцова забота о нем снаружи, сам отец в свою систему верил. Как безумный изобретатель, оберегающий секрет своего вечного двигателя, он никому не позволял вмешиваться. Раз мы с женой оказались между квартирами и вселились на три-четыре недели к нему. Сочтя полумрак в доме унылым, мы раздвинули все шторы, впустить солнышка. Отец вернулся с работы домой и, увидев, что мы сделали, впал в безудержную ярость – совсем не пропорционально любому проступку, что мы бы могли совершить.
Такого рода гневу он редко давал волю – только если чувствовал, что его загнали в угол, посягнули на него, что присутствие других его сокрушает. Иногда такое вызывали денежные вопросы. Ну или какая-нибудь мелочь: шторы на окнах, разбитая тарелка, вообще пустяк.
Тем не менее гнев в нем был, я полагаю, все время. Как и дом, хорошо организованный, однако распадавшийся изнутри, сам человек был спокоен, едва ли не сверхъестествен в своей невозмутимости, и все же подвержен бурной, неостановимой внутренней ярости. Всю свою жизнь он стремился избегать конфронтации с этой силой, воспитывал в себе некий автоматизм, который позволял бы ему огибать ее. Надежда на раз и навсегда закрепленные действия освобождала его от необходимости заглядывать в себя, когда требовалось принимать решение; с языка всегда быстро срывалось клише («Красивый ребенок. Желаю удачи»), а не те слова, что он выходил искать. Все это сплющивало его как личность. Но в то же время это его и спасало – оно давало ему жить. До той степени, в какой он был способен жить.
Из мешка разрозненных картинок: фотомонтаж, сделанный в студии Атлантик-Сити где-то в сороковых годах. Отца на снимке несколько, сидят вокруг стола, каждый снят под другим углом, поэтому сперва кажется, что это группа разных мужчин. Их окружает сумрак, позы их совершенно бездвижны – похоже, что они собрались на спиритический сеанс. А потом приглядываешься к снимку и начинаешь понимать, что все эти люди – один и тот же человек. Сеанс становится настоящим, он будто бы явился туда, чтобы вызвать лишь дух себя самого, вернуть себя из мертвых, как будто, размножив себя, он нечаянно заставил себя исчезнуть. Его там пятеро, однако сама природа этого монтажа не дает разным «я» возможности встретиться друг с другом взглядами. Каждый приговорен пялиться в пространство, словно под пристальными взглядами прочих, но ничего не видеть. Это изображение смерти, портрет человека-невидимки.
Постепенно я начинаю сознавать нелепость задачи, которую сам себе поставил. У меня чувство, будто пытаюсь куда-то дойти, словно знаю, что хочу сказать, но чем дальше иду, тем мне понятнее, что тропы к моей цели нет. С каждым шагом мне приходится измысливать путь, а это значит, что я никогда не могу быть уверен, где нахожусь. Такое ощущение, что хожу кругами, постоянно возвращаюсь по своим следам, разбегаюсь сразу во все стороны. А если и удается мне продвинуться, я вовсе не уверен, что дорога приведет меня туда, куда я, по-моему, направляюсь. Бродишь в пустыне, но это вовсе не значит, что существует земля обетованная.
Когда я только начал, мне казалось, что все придет спонтанно, выльется, как в трансе. Так велико было у меня желание писать, что я думал – история напишется сама. Но слова пока приходят очень медленно. Не удается писать больше страницы-двух – даже в лучшие дни. Я, кажется, инвалид, проклят некой неспособностью сознания сосредоточиться на том, что делаю. Вновь и вновь наблюдаю, как мысли мои отвлекаются от того, что́ передо мной. Не успеваю подумать одно, как оно вызывает что-то еще, а за ним еще, пока подробности не громоздятся уже так плотно, что вот-вот задушат меня. Никогда прежде настолько не осознавал я пропасти между думанием и писанием. Последние несколько дней вообще-то я чувствую, что история, которую пытаюсь рассказать, как-то несовместима с языком, что сила ее противодействия языку – в точности мера того, насколько я приблизился к тому, чтобы сказать что-то важное, а затем, когда настает миг, когда я должен сказать что-то поистине важное (при условии, что оно существует), сделать этого я не смогу.
Не зарастает рана, и я теперь сознаю, что она очень глубока. Акт письма не лечит меня, как я рассчитывал, а не дает ране затянуться. Временами я даже чувствую ее боль – она сосредоточилась у меня в правой руке, как будто стоит мне только взять перо и прижать его к странице, руку мою рвет на куски. Вместо того чтобы мне отца похоронить, эти слова поддерживают в нем жизнь, быть может – сильнее прежнего. Я вижу его не только каким он был, но и каков он есть, каким будет, и всякий день он тут – вторгается в мои мысли, подкрадывается ко мне без предупреждения: лежит в гробу под землей, тело еще не тронуто, ногти и волосы продолжают расти. Такое чувство, что, если мне следует что-то понять, я должен пронзить этот образ тьмы, должен вступить в абсолютную тьму земли.
Кеноша, Висконсин. 1911 или 1912 год. Он и сам не уверен был в дате. В смятенье большой иммигрантской семьи свидетельства о рождении наверняка не считались шибко важными. Значение имеет то, что он был последним из пяти уцелевших детей – девочки и четверых мальчиков, все родились за восемь лет, – и что мать его, женщина крохотная и яростная, едва-едва говорившая по-английски, сохранила семью. Она была матриархом, абсолютным диктатором, первопричиной в центре вселенной.