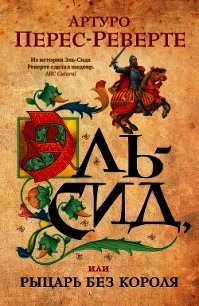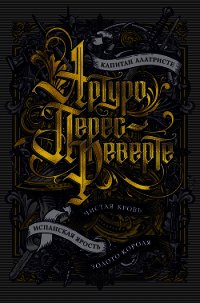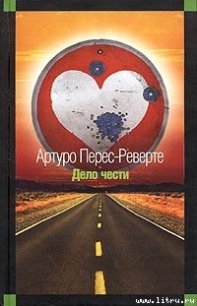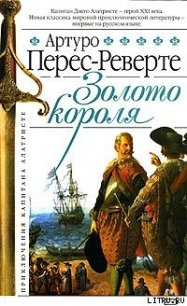Золото короля - Перес-Реверте Артуро (читать хорошую книгу полностью .txt, .fb2) 📗
– Говорю вам: он – счетовод. Счета сводит, а заодно – и счеты. Он, что называется, петрит в цифрах, равно как и в таможенных пошлинах и в прочей петрушке. С ним не шути.
– Кто-нибудь украл больше, чем положено?
– Такой всегда найдется.
Широкое поле шляпы затеняло лицо Алатристе, будто покрывая его маской, и оттого глаза, в которых отражалась залитая солнцем набережная, казались еще светлее, чем обычно.
– А нам-то что до всего этого?
– Я не более чем посредник. Меня ласкают при дворе, король смеется моим шпилькам, королева дарит мне улыбки… Оливаресу я сумел оказать важную услугу, и он о ней пока не забыл.
– Рад, что Фортуна соизволила наконец повернуться к вам лицом, дон Франсиско.
– Тсс, не так громко. Эта дама подстроила мне столько каверз, что к ее милостям я недоверчив.
Алатристе с удовольствием разглядывал поэта:
– Так или иначе, вы стали настоящим придворным.
– Да перестаньте, капитан! – Кеведо беспокойно поскреб шею под брыжами. – Музы не любят острых блюд. Сейчас я в фаворе, обрел известность, мои стихи звучат повсюду… Дошло до того, что мне приписывают даже те, что принадлежат перу гнусного педераста Гонгоры, чьи предки в рот не брали свинины и тачали сапоги в Кордове, где и получили дворянское достоинство… Он тут выпустил сборник своих виршей, которые я приветствовал залпом десятистиший… Кончаются так:
Но, возвращаясь к предметам более серьезным, скажу еще раз: Оливаресу сейчас выгодно иметь меня в союзниках. Он мне льстит и мною пользуется. И вас, капитан, привлекли по желанию самого графа-герцога, который вас помнит. Это одновременно и хорошо, и скверно: мы-то с вами знаем, что он за птица. Будем надеяться на лучшее. Кроме того, однажды вы сказали ему, что если он посодействует спасению Иньиго, то может рассчитывать на вас и вашу шпагу. Министр и этого не забыл.
Алатристе быстро взглянул на меня, потом задумчиво кивнул:
– Чертовски памятлив наш граф-герцог.
– Ну да. Когда ему это выгодно.
Мой хозяин посмотрел вслед счетоводу, который в нескольких шагах от нас, с независимым видом заложив руки за спину, пробивался через припортовую толчею.
– Он не слишком словоохотлив.
– Верно! – рассмеялся Кеведо. – Тут вы с ним сходитесь.
– Важная шишка?
– Мелкая сошка. Однако в ту пору, когда дона Родриго Кальдерона притянули к суду за растрату, именно он перерыл гору бумаг, чтобы доказать его вину… Осознали, с кем придется иметь дело?
Он сделал паузу, давая капитану возможность оценить сказанное. Алатристе тихо присвистнул. Несколько лет назад публичная казнь могущественного Кальдерона растревожила всю страну.
– А что же он вынюхивает теперь?
Поэт ответил не сразу.
– Вам об этом расскажут сегодня вечером, – произнес он наконец. – Относительно же миссии Ольямедильи и вашего в ней участия скажу лишь, что поручение дано Оливаресом по воле самого короля.
Алатристе недоверчиво мотнул головой:
– Да вы шутите, дон Франсиско.
– Уж какие тут шутки… Провалиться мне на этом самом месте. Или вот вам клятва пострашнее: пусть дарование мое уравняется с талантом горбатого Руиса де Аларкона!
– Черт возьми, это серьезно.
– Слово в слово сказал я это, когда меня попросили взять на себя роль посредника. Зато, если все пройдет гладко, получите известную толику эскудо.
– А если не гладко?
– Боюсь, что в этом случае траншеи под Бредой покажутся вам райскими кущами. – Кеведо вздохнул, помотал головой, как человек, желающий сменить тему разговора. – Сожалею, друг мой, но больше сказать не могу ничего.
– А больше ничего и не надо. – В зеленоватых глазах капитана блеснула насмешливая покорность судьбе. – Хотелось бы только знать, откуда именно пырнут меня шпагой.
Кеведо пожал плечами:
– Откуда угодно, капитан, откуда угодно. Тут вам не Фландрия… Вы вернулись в отчизну.
Мы расстались с доном Франсиско, условившись, что встретимся вечером на постоялом дворе Бесерры. Счетовод Ольямедилья, по-прежнему унылый, как двор скотобойни в великопостную среду, удалился в гостиницу на улице Тинторес, где была приготовлена комната и для нас. Хозяин мой провел остаток дня, занимаясь делами: выправлял разнообразные бумаги, прикупил бельишка и кое-каких припасов, а равно и новые сапоги, благо Кеведо выплатил ему аванс за предстоящую работу. Я же употребил свободу – да нет же, господа, не в том смысле, не ловите меня на слове! – чтобы углубиться в хитросплетения улочек и переулочков, то и дело задирая голову к фасадам, украшенным гербами, распятиями, барельефами Христа, Девы Марии и всех святых, увертываясь от карет и всадников, – то есть бесцельно бродил по этому роскошному, грязному, бурлящему жизнью городу, глазел на толпы людей у дверей харчевен и у входа в театры, озирался во всеоружии фламандского своего опыта на женщин – белокурых, разряженных и развязных: особенное очарование придавал их речам севильский, будто позванивающий металлом выговор. Восхищался величественными дворцами за оградами – в знак того, что для обычного правосудия они недоступны, на воротах висели цепи – и примечал, что если кастильская аристократия в стоицизме своем, сиречь в нежелании работать, доходила до полного разорения и обнищания, то севильская знать смотрела на вещи шире, торговлей и коммерцией не гнушалась, так что идальго мог заняться делом, приносящим доход, а купец – истратить целое состояние ради того, чтобы его считали благородным: вообразите, что даже для вступления в портновскую гильдию следовало представить свидетельство о чистоте крови. К чему это приводило? Во-первых, к тому, что дворянство использовало свои связи и привилегии, чтоб без излишней огласки обтяпывать коммерческие делишки, и к тому, во-вторых, что труд и торговля, столь полезные для других стран, у нас пребывали в забросе и небрежении, становясь уделом чужеземцев. Так что бо`льшая часть севильской знати состояла из разбогатевших простолюдинов, отрекшихся от почтенных занятий своих предков и благодаря деньгам и выгодным бракам поднявшихся на другую ступень в обществе. И если дед торговал, то отец становился владельцем майората, благородным человеком, предпочитавшим не вспоминать об источнике своего богатства и упоенно пускавшим его по ветру; внук же зачастую побирался. Даже пословицу об этом сложили: «Дед – купец, дворянин – отец, сын – кутила, внуку не хватило».
Посетил я и Алькаисерию – целую улицу лавок, лотков и палаток, торговавших предметами роскоши и драгоценностями. Сам я был в черных штанах с солдатскими гетрами, на кожаном поясе сзади висел кинжал, поверх штопаной-перештопаной сорочки носил я верхнюю рубаху-альмилью, а на голове – берет фламандского бархата, теперь уже весьма давний трофей. Благодаря моей цветущей юности и в этом наряде выглядел я, смею думать, хоть куда – и горделиво прохаживался, изображая из себя ветерана-знатока, перед лавками оружейников на улицах Мар, Вискайнос и Сьерпес и у ворот знаменитой тюрьмы, в чьих черных стенах некогда томился в заточении Матео Алеман и мыкал горе наш славный дон Мигель де Сервантес. С важным видом прогулялся я и по факультету плутовства, иными словами – по легендарной паперти кафедрального собора, где не протолкнуться было от торговцев, ротозеев и попрошаек, которые, нацепив на шею табличку с просьбой о подаянии, выставляли напоказ свои язвы, раны и уродства – фальшивые, как поцелуй Иуды, – тянули вперед культи, уверяя, что лишились руки или ноги под Антверпеном, хотя с тем же успехом могли бы заявить, что пострадали в Ронсевальском ущелье, а то и при обороне Нумансии [7], ибо стоило лишь раз глянуть на сих мнимых защитников истинной веры, отчизны и короля, чтобы понять: турка или еретика-лютеранина видали они раз в жизни, да и то на сцене.