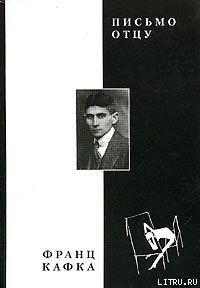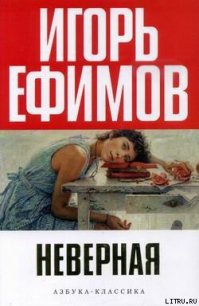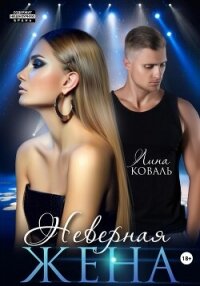Неверная - Али Айаан Хирси (читать полностью книгу без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Поначалу казалось, что у Хавейи в Кении все хорошо. Мы разговаривали по телефону примерно раз в десять дней, и она вроде бы была вполне довольна, даже говорила о том, что собирается устроиться на работу. Но потом, в октябре, она снова заболела. По телефону я слышала от нее бессвязные, сбивчивые речи, любую беседу она сводила к религиозным бредням. Она слышала голоса.
Я предложила ей вернуться в Лейден, но она сказала, что боится Голландии. Когда я позвонила в следующий раз, она сказала, что хочет обратно в Голландию, но потеряла паспорт. Она стала умолять меня приехать и как-нибудь вывезти ее. Она сказала, что мама иногда связывает ее, а Махад – бьет. Потом разрыдалась: «Я трачу время впустую, я старею, я в беде, я беременна».
Больше к телефону Хавейя не подходила. Я говорила только с мамой, которая сообщила мне, что Хавейя становится все более вспыльчивой и опасной. О беременности Хавейи мама знала. Когда я упомянула об этом, мама только сказала с горьким смирением: «На то была воля Аллаха». Я выслала им деньги.
В начале декабря я опять позвонила им и узнала от мамы, что Хавейя больна. Она сказала мне: «Если ты хочешь увидеть свою сестру живой, приезжай немедленно». В Лейдене у меня наступила пора экзаменов, и я не восприняла слова мамы всерьез. Я думала отправиться в Найроби на рождественские каникулы, но я очень сильно отстала в учебе за те месяцы, что присматривала за Хавейей, и в итоге решила провести праздники за университетскими заданиями, дописав несколько докладов.
Всего через несколько дней после Нового года, 8 января 1998 года, мне позвонил отец и сообщил самую ужасную новость в моей жизни… «Хавейя по воле Аллаха отправилась в последний путь», – сказал он мне.
Она проболела неделю, а потом умерла. Я не могла в это поверить. Ощущение было такое, как будто из комнаты, где я находилась, разом откачали весь воздух. Я разрыдалась, и отец сказал мне: «Нет, Айаан. Нам нельзя плакать по Хавейе. От Аллаха мы приходим в этот мир, к Аллаху же и возвращаемся. Она теперь с Богом. А нам еще нужно выстрадать земную жизнь, чтобы достичь того, что у нее уже есть. Она покоится с миром».
Я плакала и никак не могла остановиться. Я вылетела в Кению первым же рейсом. Перед дорогой в аэропорт надела черное пальто и платок – ту же самую одежду, что была на мне, когда я прибыла в Европу.
Примерно за час до того, как я приземлилась в Найроби, Хавейю похоронили. Мне так и не удалось посмотреть на ее тело и попрощаться с ней. У мусульман положено хоронить человека в течение двадцати четырех часов после его смерти. Иногда бывает, что правило не соблюдают – чтобы муж или отец успели приехать. Но мой отец на похоронах не присутствовал – он был в Сомали, – а попросить отсрочить погребение ради меня никому и в голову не пришло.
Так что, когда я приехала, Хавейя уже лежала в земле. Я сидела в грязной маленькой комнатке, где теперь жила моя мать, на грязной улице в Истли, и слушала ее рассказы о жизни Хавейи в последние полгода. Я смотрела на тонкие решетки на окнах, погнутые в тех местах, где сестра бросалась на них, и на разбитое ею окно, которое с тех пор так и не починили.
Мама и Хавейя жили здесь, в этом ужасном месте. Здесь они спали, готовили еду и мылись. Более унылое жилье невозможно было себе представить.
Мама рассказала мне о смерти Хавейи. Психотические приступы становились все сильнее и сильнее. Иногда, чтобы ее привязать, мама звала на помощь нескольких мужчин: сама она не могла к ней даже приблизиться. Приходил доктор, делал ей уколы, и тогда она вроде бы успокаивалась. Но как-то ночью разразилась гроза. Хавейя стояла у окна и смотрела на ливень. Потом вдруг сказала, что увидела в сверкнувшей молнии Аллаха, и выбежала за дверь. Босая, она побежала по дороге во тьму прямо по ямам, и, когда мама начала кричать и звать на помощь, за ней ринулись двое сомалийцев. Когда Хавейю привели домой, между ног у нее текла кровь.
Она умерла спустя неделю после того, как случился выкидыш. Видимо, произошло заражение. Не знаю даже, показывали ли ее врачу.
Я не могла найти слов, чтобы выразить весь свой ужас, а еще я боялась матери. Мне вдруг подумалось, что она может попробовать отобрать у меня паспорт, чтобы я осталась жить в Найроби. В ту ночь я легла спать на матрасе, принадлежавшем Хавейе, а паспорт крепко привязала к талии.
После смерти Хавейи я молилась. Оделась, как подобает, и склонилась в молитве, как велела мне мама. Я просила Бога дать мир нашему дому, но в моих молитвах не было никакого смысла. Сидя одна, я умоляла Аллаха даровать Хавейе покой, потому что на земле она жила в аду. Мысль о том, что теперь ей не больно, что теперь она покоится с миром, была на удивление успокаивающей.
Мать моя ожесточилась и обессилела. В ней уже не было ничего от девушки, оставившей свою семью в miyé, чтобы отправиться в Аден; не осталось ничего и от той гордячки, что вышла замуж за мужчину, которого выбрала самостоятельно; не узнать было в ней и ту женщину, которая из последних сил билась, чтобы спасти свою семью. Ее мечты стали кошмарами. Бабушка уехала в Сомали жить с самой младшей из дочерей. Мать жила в Истли, квартале, который она презирала, в стране и городе, которые она всегда ненавидела, и практически никто из представителей местной общины не желал с ней разговаривать. Семьи у нее не осталось: Ма-хад не оправдал ее надежд, одна из дочерей покинула ее, вторая забеременела и сошла с ума. Худшие кошмары моей матери стали реальностью. Такая жизнь была куда страшнее, чем смерть, постигшая Хавейю.
Во второй половине следующего дня мать вдруг начала ругаться и жаловаться: «За что Аллах так со мной поступил? Как твоя сестра могла так со мной поступить?» Я не могла вынести, что мама винит Хавейю в том, что та сделала ей больно. Я вспомнила, через сколько издевательств, сколько побоев прошли мы с сестрой, когда были маленькими. Казалось, маме даже в голову не приходило, что, возможно, в том, что случилось, была доля ее вины. Я думала о том, как мама убедила Хавейю оставить лечение в Голландии и вернуться в Найроби, в эту убогую комнатушку, в эту абсолютную нищету.
Я попыталась усадить маму за стол и объясниться. Возможно, впервые в жизни мне хотелось серьезно поговорить с ней. Но от той страшной матери, которую я помнила, ничего не осталось. Мама была абсолютно измождена, и я ее пожалела. Из-за псориаза все ноги у нее были покрыты струпьями, она была очень несчастна.
У меня была с собой тысяча долларов; я отдала их матери и сказала: «Я хочу, чтобы ты немедленно выехала из этой комнаты. Я буду присылать тебе деньги, но хочу, чтобы ты уехала в Сомали. Возвращайся к своим братьям и сестрам, к своему клану. В Найроби тебя ничего не держит. Хавейя умерла. У Махада нет никаких планов, а я сюда больше не вернусь. Друзей у тебя нет, ты со всеми ссоришься. Тебе надо уехать».
Я почувствовала, что теперь исполняю роль старшей в доме. Я сказала маме: «Я хочу, чтобы ты сама ходила за деньгами, когда они придут. Махад не должен в этом участвовать». Я рассказала маме о том, сколько денег выслала Махаду на ее содержание – в общей сложности не менее десяти тысяч долларов; он говорил мне, что на эти деньги снимает для нее дом в Вестлендсе. Рассердившись, мать как будто немного ожила.
Я сходила навестить Халву. Она все еще жила в доме своего отца, спала все в той же спальне, но было такое ощущение, что душу из нее вынули призраки. В 1992 году, через несколько месяцев после того, как меня отправили из Найроби к Осману Муссе, Халва наконец-то вышла замуж за своего кузена из Йемена. Он был крайне неразвит, не умел читать и писать, но постоянно командовал и ожидал, что она будет его обихаживать. Халва ненавидела своего мужа, но все равно забеременела от него. Когда у нее родилась дочка, она упросила отца позволить ей развестись. Ее отец с неохотой выплатил положенную сумму, и муж Халвы вернулся в Йемен. Теперь она почти никогда не выходила из отцовского дома. Ее дочурке было четыре года, и для Халвы она была единственной радостью в жизни.