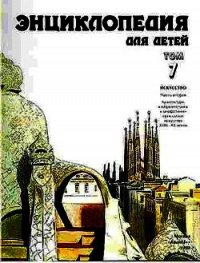Философия искусства - Шеллинг Фридрих Вильгельм (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Целокупность изображения требует, чтобы и в нравах трагедии соблюдались степени; особенно Софокл умел даже при малом количестве действующих лиц не только достигнуть вообще сильнейшего впечатления, но и дать в таких ограниченных рамках законченную картину нравов.
С точки зрения того, что Аристотель называет эбн мбуфэн, т. е. необыкновенным, драма очень существенным образом отличается от эпического произведения. Эпос изображает счастливое состояние, неразделенный мир, в котором боги и люди составляют одно целое. Здесь, как мы уже говорили, вмешательство богов не будет неким чудом, ибо сами они принадлежат к этому миру. Драма уже коренится в более или менее распавшемся мире, причем необходимость и свобода противостоят друг другу. Здесь появление богов наподобие того, как это происходит в эпосе, представлялось бы чем-то чудесным. Так как именно в драме нет случайностей, но все должно оказаться необходимым либо с внешней, либо с внутренней стороны, то боги могли бы являться в драме только в связи с им самим присущей необходимостью, т. е. лини, поскольку они сами участвуют в действии или во мен ком случае оказываются непосредственно вовлеченными в действие, но ни в коем случае не с целью оказания помощи действующим лицам, главному действующему лицу в особенности, и не с целью вредить им (как в «Илиаде»). Ведь герой трагедии обязан один решить исход борьбы; он должен выдержать испытание лишь благодаря своему нравственному величию; и внешнее избавление, и помощь, которую боги могут ему оказать, недостаточны в его положении. Его ситуация может разрешиться только внутренним путем; если боги, как в «Эвменидах» Эсхила, суть примиряющее начало, то они должны поставить себя в условия, свойственные человеку; они могут прощать или спасать лишь постольку, поскольку они восстанавливают равновесие свободы и необходимости и входят в переговоры с божествами справедливости и судьбы. Но в этом случае в их появлении нет никакого чуда; спасение и помощь, которые они доставляют, они оказывают не как боги, но сами нисходя до человеческой участи и подчиняя себя праву и необходимости. Когда же боги в трагедии действуют враждебно, они сами оказываются судьбой; к тому же здесь они не действуют персонально, но их враждебное воздействие выражается через внутреннюю необходимость в [самом] действующем лице, как у Федры.
Итак, призывать в трагедии богов на помощь, чтобы завершить действие чисто внешним образом, на самом же деле внутренне прервать его или оставить неоконченным, значило бы разрушить всю суть трагедии. Несчастье, которое боги, как таковые, могли бы устранить собственным вмешательством, само по себе не есть подлинно трагическое несчастье. Наоборот, если такое несчастье налицо, то боги бессильны, и если их все же вызывают, то это и есть случай, именуемый «Deus ex machina», который все считают разрушительным для сущности трагедии.
Таким образом, чтобы завершить этим указанием исследование внутренней конструкции трагедии, действие должно быть завершено не только внешне, но и внутренне, в самой душе, ибо внутреннее возмущение есть то, в чем, собственно, заключается трагедия. Только из этого внутреннего примирения и возникает гармония, необходимая для завершения. Плохим поэтам кажется достаточным внешне закончить с трудом развертывающееся действие. Это недопустимо; равным образом не должно происходить примирения посредством чего-либо инородного, необыкновенного, лежащего не в душе и действии; ведь тягость подлинной судьбы нельзя ничем смягчить, кроме величия, добровольного принятия и душевной высоты. (Основной мотив искупления — религия, как в «Эдипе в Колоне». Высшее просветление — когда его призывает бог: «Слушай, Эдип, слушай, зачем ты медлишь?» И затем он исчезает из глаз смертных.)
Я перехожу теперь к внешней форме трагедии.
Из самого понятия ясно, что трагедия не есть повествование, но действительно объективное действие, а отсюда со строгой необходимостью вытекают и другие закономерные черты внешней формы. Действие, ставшее предметом повествования, проходит сквозь мышление, эту наиболее свободную по природе стихию, где и отдаленное приходит в непосредственное соприкосновение. Действие, которое дается в объективном, подлинном виде, есть предмет созерцания, а потому и подчиняется законам созерцания. Но последнее должно быть непрерывным. Следовательно, непрерывность действия есть необходимое свойство всякой рациональной драмы. С изменением этой непрерывности должно одновременно измениться и все строение драмы. Поэтому, конечно, было бы безумием связывать себя этим законом античной трагедии, соблюдая непрерывность времени там, где нет даже отдаленного сходства в других элементах трагедии, как мы это наблюдаем у французов в их пьесах, которые они называют трагедиями, злоупотребляя этим названием. Но французская сцена при этом даже и не соблюдает указанного закона во всем, что не сводится к голому ограничению, коль скоро автор допускает, чтобы между действиями протекало время. Не соблюдать здесь непрерывности действия и в то же время стремиться к ней в других отношениях — значит обнаруживать только беспомощность и неспособность к концентрическому развертыванию большого действия как бы вокруг одной и той же точки.
Из трех единств, которые указывает Аристотель, главное есть, собственно, непрерывность времени. Что касается так называемого единства места, то достаточно соблюдать его лишь постольку, поскольку оно необходимо для непрерывности времени; в тех немногих античных трагедиях, которые дошли до нас, и притом у самого Софокла (т. е. в «Аяксе»), встречается пример необходимой перемены места.
Внешняя непрерывность действия, составляющая свойство подлинной трагедии, есть лишь внешнее проявление внутренней непрерывности и единства самого действия — что бы против этого ни возражали современные критики из чувства ложного пиэтета к неправильно понятому единству времени во французских пьесах и к прочим ограничениям. Это единство самого действия может быть соблюдено лишь в том случае, если будут устранены случайности действительного, эмпирически происходящего действия и сопровождающих его обстоятельств. Подлинное пластическое завершение драмы достигается только путем изображения сущности, как бы чистого ритма действия, без частностей в обстоятельствах и без включения того, что происходит одновременно с главным действием.
В этом отношении хор греческой трагедии — лучшее и вдохновеннейшее изобретение возвышеннейшего искусства. Я называю хор высоким изобретением, ибо он не потакает грубой чувственности и, всецело отмежевываясь от пошлого тяготения к обману чувств, непосредственно возносит зрителя в высшую сферу истинного искусства и символического изображения. Правда, хор греческой трагедии может воздействовать многообразно, но самый благородный способ воздействия заключается в том, что он устраняет случайности окружения. Вполне естественно, что ни одно действие не может произойти без того, чтобы с ним кроме лиц, принимающих непосредственное участие, не были связаны еще другие, бездеятельные в отношении главного действия. Предоставлять им быть только зрителями или поручать только вспомогательные действия значило бы опустошать действие, в то время как оно должно быть в каждом своем пункте плодородным и плодоносным подобно полноцветному растению. Если устранять этот недостаток реалистически, то всем этим вспомогательным лицам должна быть предоставлена та или иная роль и целому должно быть придано значение, свойственное новейшим трагедиям. Прием античных авторов в данном случае идеалистичнее, символичнее. Они превращали окружение в хор и придавали ему в своих трагедиях истинную, т. е. поэтическую, необходимость. Назначение хора стало заключаться в том, чтобы отнять у зрителя его переживания — движения души, участие, думы, не предоставлять его самому себе даже в этом отношении и, таким образом, при помощи искусства всего его приковать к драме. Наиболее значительная функция хора — объективированная и персонифицированная (гергазепИегЧе) рефлексия, сопровождающая действие. Как свободное созерцание ужасного и скорбного уже само по себе возвышает над первым потрясением ужаса и скорби, так и хор в трагедии был как бы неизменным средством смягчения и примирения, с помощью чего зритель приводился к более спокойному созерцанию и получал облегчение от ощущения боли как бы тем, что она вкладывалась в объект и в нем представлялась уже в ослабленном виде. Итак, из самого построения хора явствует, что главное его .назначение было в том, чтобы дать трагедии такую законченность, благодаря которой она все сосредоточивает в себе и как бы вовлекает в свой круг даже мысль, которую она пробуждает, вместе с душевными движениями и самим участием.