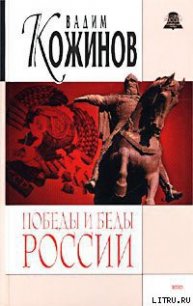Грех и святость русской истории - Кожинов Вадим Валерьянович (читать книги без регистрации TXT) 📗
В результате в западной культуре гораздо большую, чем у нас, цену приобрели человеческие жизнь и достоинство. Знатнейшие горожане Кале, спасая земляков, вышли навстречу победителям в одних рубашках (в Средневековье – знак поругания) и с веревками на шее – на позор и смерть. За этот подвиг самопожертвования, а вовсе не за сдачу города, им и поставили памятник. Возможно, перестройка и была утопией, как и стремление в рекордно короткие сроки построить в России капитализм. Но разве не привлекательна попытка перевести российскую историю с вымощенного человеческими костями пути? Вы сказали, что в основании России лежит идея. Но идеи, как известно, преходящи – следовательно, мы обречены на циклически повторяющиеся исторические крахи. Едва ли нам удастся измениться: тот же Бродель писал, что в истории любой страны есть огромная сила инерции. Бедные и неустроенные обречены на свою судьбу… И все же наши реформаторы вызывают у меня сочувствие.
– Тем не менее критиковать прошлое бессмысленно: так же, как и упрекать какую-то страну в том, что она не похожа на другие, а мужчину – в том, что он не женщина. Я совершенно с вами согласен: за редкими исключениями, которые всегда вызывали осуждение, на Западе с давних времен установилась власть закона. Но вспомним двух монархов-современников: нашего Ивана Грозного и Генриха VIII английского. Царь Иван без всякого суда казнил три, максимум четыре тысячи человек; король Генрих по закону уничтожил около двухсот тысяч. Семьдесят две тысячи из них были бродягами, крестьянами, согнанными с земли и искавшими, куда приткнуться. Их ловили и вешали вдоль дорог, а тела не убирали. Закон этот был разработан замечательным гуманистом Томасом Мором, позже казненным – после соответствующей судебной процедуры.
В России есть своя ложь и своя истина, свое безобразие и своя красота, свой грех и своя святость – не будем же говорить, что у них все хорошо, а у нас все плохо. Не станем впадать и в обратное заблуждение. Данилевский и Леонтьев, Шпенглер и Тойнби писали о самостоятельных суверенно развивающихся цивилизациях, которые нельзя мерить одной меркой. Вспомним Пушкина: явления надо судить по законам, им самим над собою признанным.
Я с вами совершенно согласен: идеократичность России обусловила ее страшные поражения. Но вместе с тем – и победы, и взлеты тоже! Недавно я читал одного американского автора, крайне отрицательно отзывающегося о России. В то же время он выделяет четыре великие эпохи в истории человеческой культуры: библейскую, классическую Грецию, европейское Возрождение и русский XIX век…
А теперь – о трагическом. Человеческое бытие трагично по определению, ведь человек смертен, более того – он знает об этом. Смертен не только частный человек, но и народ – сколько наций уже перестало существовать! Да, история России трагична, но в этом и есть ее избранность: здесь обнажена сама сущность человеческого бытия.
– Чем же здесь отличается Запад?
– На Западе все обстоит по-иному: там люди стараются не замечать смерти или же относятся к ней совершенно по-бытовому. Русский человек боится кладбища, а на Западе этого нет. В свое время в Веймаре меня потрясло то, что кладбище расположено в центре города, напротив самых богатых домов; их жильцы с особым удовлетворением высматривали места своих будущих могил… Это особый, очень достойный вид существования; западного человека не только не смущает смерть – он всегда удовлетворен своей жизнью. Русский же вечно недоволен и, как это ни дико звучит, в глубине души полагает, что насчет смерти – это еще бабушка надвое сказала. И вообще, может быть, я завтра буду министром… Два совершенно разных менталитета – западный, исполненный высокого достоинства (любой немецкий трубочист или мусорщик сознает важность и необходимость своего дела), и русский, с его самоедством и неудовлетворенностью. Но вместе с тем и радости, и веселости, которая присуща русским, на Западе нет – западный человек ясно видит черную дыру, которая его ждет впереди.
И все же это не трагическое мироощущение; трагизм рождается на грани, на самом срезе жизни и смерти. Об этом очень интересно говорил мне Бахтин: по его мнению, люди, с именем Сталина бросавшиеся под танки, не верили, что они умирают. Они считали, что эта формула – «За Сталина!» – переносит их в какую-то иную жизнь. И это очень глубокая мысль – русский человек не думает, что, умирая, он уходит в небытие.
Мы никогда не будем жить как немцы или японцы – хотя бы потому, что никогда ими не станем. Никогда! Я видел, как японские рабочие в Токио ремонтируют мостовую. Впечатление такое, как будто они в теннис играют: никакой торопливости, размеренные движения, но при этом – ни одного лишнего. Никаких перекуров, никакой расслабленности… Такой профессионализм должен быть достигнут предками и закреплен генетически.
Но даже в Японии многие не выдерживают ритма этой жизни – часто можно увидеть бродяг, лежащих на газетах прямо на улице. Это их выбор – они не вписались в рыночную экономику. Что же произойдет у нас? Ведь в России всегда было очень много людей, не желающих заботиться о собственном благополучии. Многие из наших гениев не имели собственной крыши над головой и по всем формальным признакам были бомжами. Мусоргский, Аполлон Григорьев, Полежаев, Есенин… В западной системе отношений им едва ли удалось бы выжить – тем более заниматься творчеством.
В заключение я хочу повторить сказанное выше: в России есть своя ложь и своя истина, свое безобразие и своя красота. И она останется Россией – или ее вообще не будет…
Вместо эпилога
Современное религиозное сознание
Современные русские люди, полагающие, что можно возродить в душе народа – или хотя бы в весомой его части – то зиждившееся на православной Вере национальное сознание, которое было реальностью еще в прошлом веке, не принимают во внимание своего рода переворот в самом «строении», «структуре» человеческих душ, совершившийся за последние десятилетия.
Утрату людьми убежденной, как бы врожденной Веры обычно истолковывают только как последствие запретов и борьбы с христианством в советское время. Между тем история мира дает немало доказательств тому, что жестокие гонения на христиан нередко вели к противоположному результату – к укреплению и росту Веры; есть подобные примеры и в советские времена. И характерно, что очень многие люди, родившиеся накануне или в первые годы после революции и под воздействием жестоких гонений и антирелигиозной пропаганды вроде бы совсем отошедшие от Церкви, в пожилом возрасте стали возвращаться в нее; это даже дало серьезные основания говорить (главным образом в так называемом самиздате) о «православном возрождении» конца 1960 – 1970-х годов.
Однако с теми, кто начал жизнь, скажем, в 1950-х годах и тем более позднее, дело обстоит по-иному. Правда, в наши дни, когда все запреты с религии и Церкви сняты, многие из этих людей посещают храмы. Но нередко это, увы, диктуется – прошу извинить за резкость – модным поветрием, а не духовным прозрением. Я отнюдь не хочу сказать, что среди сегодняшних посетителей церкви вообще нет подлинно религиозных людей; речь лишь о том, что они все же составляют меньшинство, и, пожалуй, незначительное…
И причина утраты глубокой подлинной Веры заключается не столько в воздействии официального атеизма и всякого рода запретов, имевших место до последнего десятилетия (что затрудняло или вообще исключало посещение храмов), сколько в кардинальном изменении самой «структуры» человеческого сознания в условиях современной цивилизации.
Еще сравнительно недавно для абсолютного большинства людей их сознание и их деятельная жизнь были чем-то нераздельным, и верующий человек участвовал в религиозных обрядах в храме или в собственном доме, не задумываясь о самой своей Вере, не подвергая ее какому-либо «анализу». Он, в сущности, вообще не мог воспринять свое религиозное сознание как «объект», который можно осмыслять и оценивать.
Но в Новейшее время совершается широчайшее и стремительное распространение различного рода предметных форм «информации», которые существуют «отдельно» от людей и их непосредственной жизнедеятельности. Если еще сравнительно недавно человеческое сознание было всецело или хотя бы главным образом порождением самой жизни, формировалось как прямое и непосредственное «отражение» реального быта, труда, религиозного обряда, путешествия и т. д., то теперь оно во все возрастающей степени основывается на том, что явлено в каком-либо «тексте», на различного рода «экранах» и т. п. Могут возразить, что книга и даже газета – «изобретение» давних времен; однако только в XX веке они становятся привычной реальностью для большинства, в пределе – для всех людей. Ранее постоянное чтение было уделом немногих даже из среды владеющих грамотой людей (и, кстати сказать, религиозные сомнения в те давние времена были характерны почти исключительно для «книгочеев»).