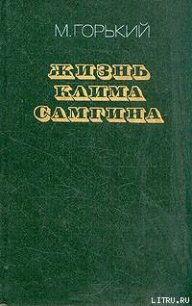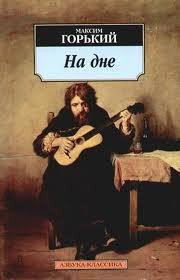Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
– Ну, как вы живете? – снисходительно спрашивал он. – Все еще стараетесь загнать всех людей в один угол?
Он усмехался с ироническим сожалением. В нем явилось нечто важное и самодовольное; ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат; снова отрастил волосы до плеч, но завивались они у него уже только на концах, а со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны.
Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых, есть много женщин и девиц, швеек, кухарок, и что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно. Она относилась к Диомидову почти озлобленно, он платил ей пренебрежительными усмешками.
– Это – ваши книги читать? – спрашивал он. – Мелко написаны для меня.
Но возражал он ей редко, а чаще делал так: пристально глядя в лицо ее, шаркал ногою по полу, как бы растирая что-то.
Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что пред интеллигенцией два пути: покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил:
– Это есть – заблуждение: пред человеком только один путь – от самого себя – к богу, а все другое для него не путь, а путаница.
Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но – он ошибся: Кумов спорить не стал; тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова.
– Неверно это, выдумка! Никакого духа нету, кроме души. «Душе моя, душе моя – что спиши? Конец приближается». Вот что надобно понять: конец приближается человеку от жизненной тесноты. И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь, – они вот начали людей в партии сбивать, новое солдатство строят.
Сильно разгневанный, Диомидов ушел, ни с кем не простясь, а Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова: почему он молчал в ответ Диомидову?
– Я с эдаким – не могу, – виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал: – Я – не умею с такими. Это, знаете, такие люди... очень смешные. Они – мстители, им хочется отомстить...
– Ну, милейший, вы, кажется, бредите, – сказала Сомова, махнув на него рукою.
– Нет, уверяю вас, – это так, честное слово! – несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. – Я очень много видел таких; один духобор – хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги, и, знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги, – вы не смейтесь! Это очень... даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно.
Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему:
– Перестань, пожалуйста...
– Серьезно, – продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула. – Мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы в Елизаветграде, тоже, знаете... Его кто-то укусил в шею, шея распухла, и тогда он просто ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это – мстить за себя, например, за то, что бородавка на щеке, или за то, что – глуп, вообще – за себя, за какой-нибудь свой недостаток; это очень распространено, уверяю вас!
– А за что, по-вашему, мстит Диомидов? – спросил Клим вполне серьезно.
– Я ведь его не знаю, я по словам вижу, что он из таких, – ответил Кумов и сел.
Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до бесед с ним; Кумов был рассеян и вообще плохой работник, Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже. Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина, и, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью.
Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более поседел, виски стали почти белыми, и сильнее выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двуцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче, и хотя он не казался постаревшим. но явилось в нем что-то печальное. Он все топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о Zweikindersystem в Германии, о неомальтузианстве среди немецких социал-демократов; все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает.
– Женщины не хотят родить детей для контор и машин.
Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь пред Самгиным в своих наблюдениях. Клим пошутил:
– Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?
– Нет, – взгляни серьезно, – начал Макаров, но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.
«Консервативен, точно мужик», – отметил Самгин.
– В самом деле, – продолжал Макаров, – класс, экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей, но тогда – зачем же ему власть?
Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти? Это – не моя мысль, а Туробоева... Самгин усмехнулся:
– Вот как! Что он делает?
– Он? Брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости.
Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно:
– Лидия Тимофеевна, за что-то рассердясь на него, спросила: «Почему вы не застрелитесь?» Он ответил:
«Не хочу, чтобы обо мне писали в «Биржевых ведомостях».
Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла, она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил неинтересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.
– Завтра возвращаюсь в Петербург, а весною перееду в Казань, должно быть, а может быть, в Томск, – сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.
– Ты что же это убежала? – спросил Самгин жену.
– Не выношу Макарова! – раздраженно ответила она. – Какой-то принципиальный евнух.
– Ого! – воскликнул Самгин шутливо, а она продолжала, наливая чай в свою чашку:
– Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой... отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом... И эти его сожаления, что женщины не родят...
– Ты забыла, – начал Самгин, улыбаясь, но во-время замолчал, – жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.
– Ну, что же? – спросила она, покусывая губы. – Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?
– Ничего подобного, – решительно сказал он. – С чего ты взяла?
– А что же ты хотел сказать?
– Напомнить, что деторождение среди Обеспеченных классов действительно понижается и – это признак плохой...
Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его:
– Ну, извини. Мне показалось.
Самгин подумал, что извинилась она небрежно и лучше бы ей не делать этого. Он давно уже заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить: что с нею? Он заботился только о том, чтоб не раздражать ее, и, когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару, а затем он и сам начал курить. В общем – все-таки жилось неплохо, но после нового года домашнее, привычное как-то вдруг отскочило в сторону.
О Сергее Зубатове говорили давно и немало; в начале – пренебрежительно, шутливо, затем – все более серьезно, потом Самгин стал замечать, что успехи работы охранника среди фабричных сильно смущают социал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, чья лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая плечами: