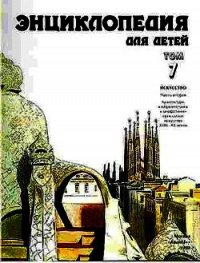Философия искусства - Шеллинг Фридрих Вильгельм (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Вынужденный перенести необходимость преступления к характер, Шекспир в связи с этим должен был с ужасающей действенностью использовать отвергнутую Аристотелем ситуацию, когда преступник из счастья попадает в несчастье. Вместо истинной судьбы у него царит Немезида, и она проступает во всех образах: когда ужасы громоздятся друг на друга, когда одна кровавая волна гонит другую, когда над обреченным сбывается проклятье, как в английской истории во время войны Алой и Белой Роз. Шекспир неизбежно представляется тогда варваром214, поскольку он взялся за изображение предельного варварства, как бы грубой родовой междоусобицы, когда кажется, что всякому искусству конец и когда выступает грубая природная сила, как это выражено в «Лире»: «Если бы лесные тигры или морские чудовища покинули свои мрачные убежища, они стали бы действовать подобным же образом». И все же здесь можно найти и другие черты, когда Шекспир вкладывает в фурий, которые только что не выступают под своим именем, обаяние искусства.
Таков плач Маргариты над головой преступного и виновного возлюбленного и ее прощание с ним.
Шекспир заканчивает ряд своих образов Ричардом III, которого он заставляет преследовать свою цель и добиваться ее с невероятной энергией, пока он с высшей вершины власти не падает в бездну отчаяния и в пылу проигрываемого сражения с безнадежностью восклицает:
Коня, коня, полцарства за коня!
В «Макбете» месть подкрадывается шаг за шагом к преступнику, наделенному чертами благородства и сбиваемому с пути лишь честолюбием, а он, обольщаемый дьявольским наваждением, продолжает думать, что она все еще далека.
Более кроткую, пожалуй самую мягкую, Немезиду мы находим в Юлии Цезаре. Брут погибает не столько вследствие вмешательства карающих сил, сколько по причине мягкости собственной прекрасной и нежной души, которая заставляет его после своего деяния ошибочно вести себя. Он принес свое деяние в жертву добродетели, ибо считал себя обязанным сделать это, и точно так же принесет ей в жертву и себя самого.
Отличие этой Немезиды от истинной судьбы весьма значительно. Она приходит из действительного мира и заложена в действительности. Это та же Немезида, которая царит в истории; оттуда Шекспир и почерпнул ее вместе со всем своим материалом. То, что* она вызывает, есть борьба свободы со свободой же; она есть следование во времени, и месть непосредственно не совпадает с преступлением.
В цикле греческих творений также царила Немезида, но там необходимость ограничивала и карала себя непосредственно через необходимость; каждая ситуация, взятая в отдельности, представляла собой законченное действование.
Все трагические мифы греков с самого начала стояли ближе к искусству, и в них постоянное общение богов и людей и общение с судьбой было природным, как и понятие неотвратимого воздействия. Может быть, в самой загадочной (unergrundlich) пьесе Шекспира («Гамлете») имеет значение даже случай, однако Шекспир признал его вместе с его последствиями и поэтому случай опять-таки оказался у него преднамеренностью и стал высшим рассудком.
Если мы после всего сказанного захотим определить одним словом, что представляет собой Шекспир сравнительно с вершинами древней трагедии, то мы должны будем назвать его величайшим изобретателем характеристик. Он не в состоянии изобразить ту высокую, способную устоять перед судьбой, как бы очищенную и просветленную красоту, которая сливается воедино с нравственным добром, — и даже ту красоту, которую он изображает, он не в силах представить так, чтобы она была явлена в целом и чтобы целое каждого произведения несло ее черты. Он знает высшую красоту лишь как индивидуальный характер. Он не смог подчинить ей все, ибо он слишком широк в своей универсальности, как человек нового времени, как тот, кто воспринимает вечное не в ограничении, но в беспредельности. Древние обладали сконцентрированной универсальностью, всеполнотой не во множестве, но в единстве.
В человеке нет ни единой черты, которой не коснулся бы Шекспир, но он берет эти черты в отдельности, тогда как греки брали их в целокуности. От самого возвышенного и до низкого все элементы человеческой природы заключены в рассеянном виде в его творениях: он знает все, любую страсть, любую душу, юность и старость, короля и пастуха. Из череды его творений можно было воссоздать исчезнувшую землю. Но древняя лира весь мир извлекла из четырех звуков; между тем инструмент нового времени имеет тысячи струн, он дробит гармонию универсума, чтобы ее воссоздать, и поэтому он всегда действует на душу менее успокоительно. Строгая, все утишающая красота может сохраниться только в совокупности с простотой.
Новая комедия в соответствии с природой романтического принципа изображает действование как действование не в чистом виде, не изолированно и не в пластической законченности античной драмы, но она в то же время выявляет и все с ним связанное. Зато Шекспир придал своей трагедии во всех ее частях напряженнейшую полноту н выразительность, в том числе и вширь, впрочем без произвольного избытка, но так, что избыток представляется богатством самой природы, воспринятым с художественной необходимостью. Замысел произведения в целом остается ясным и в то же время погружается в неисчерпаемую глубину, где могут утонуть все аспекты (Ansichten).
Само собой разумеется, что при такого рода универсальности у Шекспира нет ограниченного мира, и притом — поскольку идеальный (idealische) мир сам есть ограниченный, замкнутый мир — нет и идеального мира; но зато у него нет и мира, прямо противоположного идеальному, того, чем жалкий вкус французов заменяет идеальный мир, — мира условностей.
Таким образом, Шекспир никогда не изображает ни идеального мира, ни мира условностей, но всегда действительный мир. Идеальное заложено у него в построении его произведений. Впрочем, он с легкостью переносится в любую страну и любую эпоху, как если бы это была его собственная, т. е. он рисует ее в целом, не заботясь о менее значительных подробностях.
Любые начинания людей, как бы и где бы они ни действовали, — все было ведомо Шекспиру; поэтому ои всюду чувствует себя дома, ничто ему не чуждо и ничто не удивляет. Он не ограничивает себя обликом нравов и века, но руководствуется гораздо более широкой точкой зрения. Стиль его пьес соответствует сюжетам: он весьма разнообразен (не только в соответствии с хронологией), отличаясь то жесткостью, то мягкостью, то размеренностью, то вольностью стиха, то краткостью и прерывистостью, то долготой периодов.
Нет нужды подробно останавливаться на всем остальном: на том, что относится к внешней форме новой трагедии, на неизбежных модификациях этих форм, необходимо вытекающих из уже ранее установленных различий, например, устранении трех единств, делении целого на действия и т. п. Чтобы не задерживаться на этом, укажем, что смешение прозы и стихов в современной драме — опять-таки лишь внешнее выражение ее внутренне смешанной эпико-драматическои природы; но говоря ужо о так называемых мещанских или других низших видах драмы, где действующие лица совершенно законно изъясняются прозой, использование вперемежку прозы и поэзии было необходимо именно потому, что драматическая полнота распространилась на второстепенные персонажи. Впрочем, и в этом смешении, и в соблюдении надлежащего языка не только в отдельных частях, но и в целом известного произведения Шекспир показал себя вдумчивым художником. Так, в «Гамлете» построение периодов спутанное, отрывистое, мрачное — под стать самому герою. В пьесах на исторические темы из древней и новой истории Англии и из римской истории стиль весьма своеобразный как по построению, так и по чистоте. В пьесах из римской жизни почти вовсе нет рифмы, в то время как в пьесах из история Англии, а в особенности более древней, рифмы разнообразны и весьма живописны.